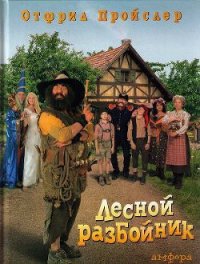Источник. Книга 2 - Рэнд Айн (читать книги полностью без сокращений бесплатно txt) 📗
— Альва, ты напрасно разнервничался, ты преувеличиваешь. «Новые рубежи» — журнал либеральный, они всегда покусывали Гейла Винанда. Его все поддевают. Он никогда не пользовался любовью в нашей среде, ты же знаешь. Но его это мало трогало, не так ли?
— Тут другое. Мне не нравится, что это делается систематически, с определенной целью, вроде множество мелких ручейков, ан смотришь — и бурный поток. Все одно к одному, и вскоре…
— Уж не развивается ли у тебя мания преследования. Альва?
— Мне это не нравится. Все было в норме, когда прохаживались насчет его яхт, женщин, кое-каких муниципальных делишек… Ведь одни сплетни, так ничего и не подтвердилось, — поспешно добавил он. — Мне не нравится, когда переходят на модный теперь жаргон новой интеллигенции: Гейл Винанд — эксплуататор, Гейл Винанд — акула капитализма, Гейл Винанд — язва эпохи. Тот же треп, конечно, Эллсворт, но треп взрывоопасный.
— Всего лишь современный стиль выражения старых идей и ничего больше. Кроме того, я не могу нести ответственности за политику журнала, даже если время от времени помещаю там свой материал.
— Нет, конечно, но… До меня доходят и другие слухи.
— Какие?
— Что ты финансируешь эту кампанию.
— Я? Из чьего кармана?
— Ну, не из своего личного. Но говорят, это ты убедил молодого Ронни Пиккеринга, известного выпивоху, сделать им финансовое вливание в сто тысяч зеленых, как раз когда журнал, как многие ему подобные, дышал на ладан.
— А, черт! Это делалось для того, чтобы вытащить Ронни из дорогих кабаков. Малыш опускался на глазах, а так у него появился стимул, смысл жизни. Он дал деньги на благородное дело, вместо того чтобы тратить на хористочек, которые так или иначе выманили бы их у него.
— Так-то оно так, но тебе следовало бы обговорить спонсорство условием, дать понять, что они не должны нападать на Гейла Винанда.
— Но «Новые рубежи» — это ведь не «Знамя», Альва. Это журнал с принципами. Его редакции нельзя ставить условия, нельзя сказать: «А не то…»
— В наших-то играх, Эллсворт? Кого ты хочешь обмануть?
— Ну, чтобы успокоить тебя, скажу кое-что, что тебе неизвестно. Это не для огласки, но раз уж ты… Все сделано через посредников. Тебе известно, что я недавно убедил Митчела Лейтона купить большой пакет акций «Знамени»?
— Нет!
— Именно.
— Господи! Это великолепно, Эллсворт! Митчел Лейтон? Такие денежки нам не помешают, и мы… Погоди-ка. Митчел Лейтон?
— Да, а что тут такого?
— Не тот ли это внучек, которому никак не переварить дедушкино наследство?
— Да, дед оставил ему громадные деньги.
— Но он ужасный сумасброд. То увлекся йогой, то сделался вегетарианцем, затем унитаристом, потом нудистом, а недавно отправился в Москву строить дворец для пролетариата.
— Ну и что?
— О Господи! Красный среди наших акционеров!
— Митчел не красный. Как можно быть красным, имея четверть миллиарда долларов! Он всего лишь бледно-розовый. Скорее даже желтый. Но душой — чудесный парень.
— Но зачем ему «Знамя»?
— Альва, ты просто осел. Неужели не понятно? Я заставлю его поместить часть состояния в добротную, солидную, консервативную газету. Это излечит его от розовых фантазий и направит на верную стезю. А кроме того, какой от него вред? Контрольный пакет ведь у нашего дорогого Гейла, правда?
— А Гейл об этом знает?
— Нет. Последние пять лет наш дорогой Гейл не так осмотрителен, как раньше. И лучше ему не говорить. Ты видишь, как ведет себя Гейл. Пора оказать на него давление. А для этого нужны деньги. Так что будь мил с Митчелом Лейтоном. Он может пригодиться.
— Тут я согласен.
— Вот и хорошо. Как видишь, я не изменник. Я поддержал на плаву либеральный журнальчик, но я же привлек гораздо более значительную сумму в поддержку такого оплота консерватизма, как нью-йоркское «Знамя».
— Выходит так, и это очень порядочно, учитывая, что ты сам своего рода радикал.
— Ну, будешь еще толковать о моей нелояльности?
— Полагаю, нет оснований. Рассчитываю на твою верность нашему «Знамени».
— То-то же. Я люблю «Знамя». Для него я готов на все. Жизнь готов отдать за «Знамя».
VIII
Отшельник на пустынном острове помнит о большой земле, но в роскошной городской квартире на крыше небоскреба, с отключенным телефоном, Винанд и Доминик забыли, что под ними еще пятьдесят семь этажей, стальные колодцы лифтов, вмонтированных в гранит. Им казалось, что их жилье не остров, а планета, летящая в космосе. Город стал лишь приятным видением, он превратился в абстракцию, связь с которой невозможна, — так можно любоваться небом, которое мало значит в жизни человека, ходящего по земле.
Две недели после свадьбы они не выходили на люди. Ей достаточно было нажать кнопку лифта, чтобы прервать это уединение, но желания не возникало. Не было стремления сопротивляться, поражаться, сомневаться. Ею овладели очарование и покой.
Винанд часами беседовал с ней, если она была к тому расположена. Он с удовольствием сидел рядом и молчал, когда ей так хотелось, рассматривая ее, как произведение искусства в своей художественной галерее, тем же спокойным, отстраненным взглядом. Он отвечал на все ее расспросы. Сам вопросов не задавал, никогда не говорил о своих чувствах, о том, что он испытывает. Когда ей хотелось остаться одной, он не мешал. Однажды вечером она читала в своей комнате и вдруг увидела, что он стоит снаружи, у холодного парапета в зимнем саду. Он ни разу не обернулся взглянуть на ее окно, просто стоял в падавшем из окна свете.
Через две недели Винанд вернулся к работе в редакции «Знамени». Но у него сохранилось чувство изолированности от мира, словно это было решено раз и навсегда и теперь надлежало строго следовать этому. Вечером он возвращался домой, и город переставал для него существовать. Он не хотел выходить. Он не приглашал гостей.
Винанд никогда не упоминал об этом, но Доминик знала, что он не хочет, чтобы она выходила из дому — ни с ним, ни одна. Это никак не навязывалось ей, но было его тихой манией. Возвращаясь, он спрашивал: «Ты выходила?» Никогда не звучало: «Где ты была?» Это не было ревностью. Где — значения не имело. Когда ей понадобилось купить пару туфель, он распорядился, чтобы три магазина прислали ей на выбор полный ассортимент, и этим предотвратил ее выход в город. Когда она захотела посмотреть фильм, он оборудовал кинозал на крыше.
Она подчинялась — первые несколько месяцев. Когда до нее дошло, что ей нравится их уединение, она тотчас положила ему конец. Она заставила Винанда принимать приглашения и сама стала приглашать гостей. Он подчинился не протестуя.
Но он воздвиг стену, которую ей было не сломать, — стену между ней и его газетами. Имя его жены никогда не появлялось на их страницах. Он пресек все попытки вовлечь миссис Гейл Винанд в общественную жизнь: никаких комиссий, благотворительных акций, социальных программ. Он без колебаний вскрывал ее почту, если по адресу и названию организации-отправителя можно было догадаться о цели письма; он уничтожал такие письма, оставляя их без ответа, и сообщал ей об этом. Она молча пожимала плечами.
Однако он, видимо, не разделял ее презрения к его империи. Ей не удалось установить, как он относится к своим изданиям. Однажды на ее замечание об особенно агрессивной передовице он холодно ответил:
— Я никогда не приносил извинений за то, что печатаю в «Знамени». И не намерен впредь.
— Но ведь это просто ужасно, Гейл.
— Я полагал, что ты вышла замуж за меня как издателя «Знамени».
— Я полагала, что тебе не по душе так думать.
— Что мне по душе, а что нет, тебя не касается. Не рассчитывай изменить характер «Знамени» или принести его в жертву. Никто на свете не заставит меня это сделать.
Она рассмеялась:
— Я об этом просить не буду, Гейл.
В ответ он даже не улыбнулся.
Он работал с новой, удвоенной энергией, с таким подъемом и яростным напором, что изумлялись даже люди, знавшие его в самую честолюбивую пору. При необходимости он просиживал в кабинете ночь напролет, чего давно уже не делал. В его стиле работы и направлении газеты ничего не изменилось. Альва Скаррет с удовольствием отмечал это.