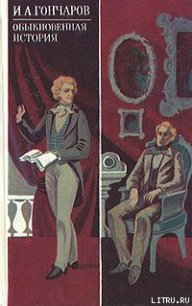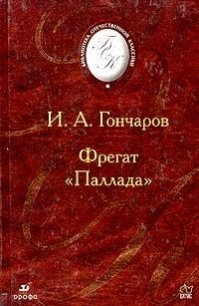Обломов - Гончаров Иван Александрович (электронная книга TXT) 📗
Та же глубокая тишина и мир лежат и на полях, только кое-где, как муравей, гомозится на черной ниве палимый зноем пахарь, налегая на соху и обливаясь потом.
Тишина и невозмутимое спокойствие царствуют и в нравах людей в том краю. Ни грабежей, ни убийств, никаких страшных случайностей не бывало там, ни сильные страсти, ни отважные предприятия не волновали их.
И какие бы страсти и предприятия могли волновать их? Всякий знал там самого себя. Обитатели этого края далеко жили от других людей. Ближайшие деревни и уездный город были верстах в двадцати пяти и тридцати.
Крестьяне в известное время возили хлеб на ближайшую пристань к Волге, которая была их Колхидой и геркулесовыми столпами, да раз в год ездили некоторые на ярмарку, и более никаких сношений ни с кем не имели.
Интересы их были сосредоточены на них самих, не перекрещивались и не соприкасались ни с чьими.
Они знали, что в восьмидесяти верстах от них была «губерния», то есть губернский город, но редкие езжали туда, потом знали, что подальше, там, Саратов или Нижний, слыхали, что есть Москва и Питер, что за Питером живут французы или немцы, а далее уже начинался для них, как для древних, темный мир, неизвестные страны, населенные чудовищами, людьми о двух головах, великанами, там следовал мрак — и наконец все оканчивалось той рыбой, которая держит на себе землю.
И как уголок их был почти непроезжий, то и неоткуда было почерпать новейших известий о том, что делается на белом свете: обозники с деревянной посудой жили только в двадцати верстах и знали не больше их. Не с чем даже было сличить им своего житья-бытья: хорошо ли они живут, нет ли, богаты ли они, бедны ли, можно ли было чего еще пожелать, что есть у других.
Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно и не может быть, уверенные, что и все другие живут точно так же и что жить иначе — грех.
Они бы и не поверили, если б сказали им, что другие как-нибудь иначе пашут, сеют, жнут, продают. Какие же страсти и волнения могли быть у них?
У них, как и у всех людей, были и заботы, и слабости, взнос подати или оброка, лень и сон, но все это обходилось им дешево, без волнений крови.
В последние пять лет из нескольких сот душ не умер никто, не то что насильственною, даже естественною смертью.
А если кто от старости или от какой-нибудь застарелой болезни и почил вечным сном, то там долго после того не могли надивиться такому необыкновенному случаю.
Между тем им нисколько не показалось удивительно, как это, например, кузнец Тарас чуть было собственноручно не запарился до смерти в землянке, до того, что надо было отливать его водой.
Из преступлений одно, именно: кража гороху, моркови и репы по огородам, — было в большом ходу, да однажды вдруг исчезли два поросенка и курица — происшествие, возмутившее весь околоток и приписанное единогласно проходившему накануне обозу с деревянной посудой на ярмарку. А то вообще случайности всякого рода были весьма редки.
Однажды, впрочем, еще найден был лежащий за околицей, в канаве, у моста, видно, отставший от проходившей в город артели человек.
Мальчишки первые заметили его и с ужасом прибежали в деревню с вестью о каком-то страшном змее или оборотне, который лежит в канаве, прибавив, что он погнался за ними и чуть не съел Кузьку.
Мужики, поудалее, вооружились вилами и топорами и гурьбой пошли к канаве.
— Куда вас несет? — унимали старики. — Аль шея-то крепка? Чего вам надо? Не замайте: вас не гонят.
Но мужики пошли и сажен за пятьдесят до места стали окликать чудовище разными голосами: ответа не было, они остановились, потом опять двинулись.
В канаве лежал мужик, опершись головой в пригорок, около него валялись мешок и палка, на которой навешаны были две пары лаптей.
Мужики не решались ни подходить близко, ни трогать.
— Эй! Ты, брат! — кричали они по очереди, почесывая кто затылок, кто спину. — Как там тебя? Эй, ты! Что тебе тут?
Прохожий сделал движение, чтоб приподнять голову, но не мог: он, по-видимому, был нездоров или очень утомлен.
Один решился было тронуть его вилой.
— Не замай! Не замай! — закричали многие. — Почем знать, какой он: ишь, не бает ничего, может быть, какой-нибудь такой… Не задайте его, ребята!
— Пойдем, — говорили некоторые, — право-слово пойдем: что он нам, дядя, что ли? Только беды с ним!
И все ушли назад, в деревню, рассказав старикам, что там лежит нездешний, ничего не бает, и бог его ведает, что он там.
— Нездешний, так и не замайте! — говорили старики, сидя на завалинке и положив локти на коленки. — Пусть его себе! И ходить не по что было вам!
Таков был уголок, куда вдруг перенесся во сне Обломов.
Из трех или четырех разбросанных там деревень была одна Сосновка, другая Вавиловка, в одной версте друг от друга.
Сосновка и Вавиловка были наследственной отчиной рода Обломовых и оттого известны были под общим именем Обломовки.
В Сосновке была господская усадьба и резиденция. Верстах в пяти от Сосновки лежало сельцо Верхлёво, тоже принадлежавшее некогда фамилии Обломовых и давно перешедшее в другие руки, и еще несколько причисленных к этому же селу кое-где разбросанных изб.
Село принадлежало богатому помещику, который никогда не показывался в свое имение: им заведовал управляющий из немцев.
Вот и вся география этого уголка.
Илья Ильич проснулся утром в своей маленькой постельке. Ему только семь лет. Ему легко, весело.
Какой он хорошенький, красненький, полный! Щечки такие кругленькие, что иной шалун надуется нарочно, а таких не сделает.
Няня ждет его пробуждения. Она начинает натягивать ему чулочки, он не дается, шалит, болтает ногами, няня ловит его, и оба они хохочут.
Наконец удалось ей поднять его на ноги, она умывает его, причесывает головку и ведет к матери.
Обломов, увидев давно умершую мать, и во сне затрепетал от радости, от жаркой любви к ней: у него, у сонного, медленно выплыли из-под ресниц и стали неподвижно две теплые слезы.
Мать осыпала его страстными поцелуями, потом осмотрела его жадными, заботливыми глазами, не мутны ли глазки, спросила, не болит ли что-нибудь, расспросила няньку, покойно ли он спал, не просыпался ли ночью, не метался ли во сне, не было ли у него жару? Потом взяла его за руку и подвела его к образу.
Там, став на колени и обняв его одной рукой, подсказывала она ему слова молитвы.
Мальчик рассеянно повторял их, глядя в окно, откуда лилась в комнату прохлада и запах сирени.
— Мы, маменька, сегодня пойдем гулять? — вдруг спрашивал он среди молитвы.
— Пойдем, душенька, — торопливо говорила она, не отводя от иконы глаз и спеша договорить святые слова.
Мальчик вяло повторял их, но мать влагала в них всю свою душу.
Потом шли к отцу, потом к чаю.
Около чайного стола Обломов увидал живущую у них престарелую тетку, восьмидесяти лет, беспрерывно ворчавшую на свою девчонку, которая, тряся от старости головой, прислуживала ей, стоя за ее стулом. Там и три пожилые девушки, дальние родственницы отца его, и немного помешанный деверь его матери, и помещик семи душ, Чекменев, гостивший у них, и еще какие-то старушки и старички.
Весь этот штат и свита дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и похвалами, он едва успевал утирать следы непрошеных поцелуев.
После того начиналось кормление его булочками, сухариками, сливочками.
Потом мать, приласкав его еще, отпускала гулять в сад, по двору, на луг, с строгим подтверждением няньке не оставлять ребенка одного, не допускать к лошадям, к собакам, к козлу, не уходить далеко от дома, а главное, не пускать его в овраг, как самое страшное место в околотке, пользовавшееся дурною репутацией.
Там нашли однажды собаку, признанную бешеною потому только, что она бросалась от людей прочь, когда на нее собрались с вилами и топорами, исчезла где-то за горой, в овраг свозили падаль, в овраге предполагались и разбойники, и волки, и разные другие существа, которых или в том краю, или совсем на свете не было.