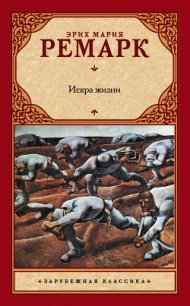Искра жизни [перевод Р.Эйвадиса] - Ремарк Эрих Мария (электронная книга txt) 📗
Глава девятая
Через два дня город опять бомбили. Сирены завыли в восемь часов вечера. Первые взрывы раздались сразу же после сигнала воздушной тревоги. Бомбы сыпались густо, словно горох, и сначала почти не заглушали зенитные орудия. Лишь под конец послышалось несколько мощных взрывов.
Газета «Мелленер Цайтунг» на этот раз не печатала экстренного выпуска. Она горела. Из огня, в котором уже плавились станки, в черное небо легко, словно мячики, взлетали огромные рулоны бумаги. Медленно, как бы нехотя, рухнуло здание редакции и типографии.
«Сто тысяч марок, — думал Нойбауер. — Вот они, горят — сто тысяч марок. Мои сто тысяч марок! Я и не знал, что так много денег может так легко сгореть. Скоты! Если бы я знал, я бы лучше вложил капитал в рудник. Но рудники тоже горят. Их тоже бомбят. Рурскую область, говорят, сравняли с землей. Что же еще можно назвать надежным?»
Мундир его был покрыт слоем копоти. Глаза покраснели от дыма. Табачная лавка напротив, которая тоже принадлежала ему, превратилась в руины. Вчера еще золотая жила, а сегодня — куча пепла. Это еще тридцать тысяч марок. А может, и все сорок. Оказывается, за один вечер можно потерять много денег. Партия? Каждый думает о себе. Страховая компания? Да она тут же обанкротилась бы, если бы вздумала выплачивать компенсацию за все, что сегодня было разрушено. К тому же он все застраховал на маленькие суммы. Сэкономил на свою голову. Хотя еще неизвестно, будут ли вообще возмещаться убытки, нанесенные бомбежкой. После войны, говорит начальство. После победы. Каждому воздастся по заслугам, никто не будет забыт. Противник заплатит за все. Как же! Держи карман шире! Это, видно, долгая история. А пока? Начинать какое-нибудь дело — поздно. Да и зачем? Кто может сказать, что будет гореть завтра?
Он не отрываясь смотрел на почерневшую, растрескавшуюся стену табачной лавки. «Дойче Вахт», пять тысяч штук, сгорели вместе с лавкой. Замечательно! А впрочем, плевать. Да, так зачем он тогда донес на штурмфюрера Фрайберга? Гражданский долг? Какой там, к чертям, долг! Вот он, его долг. Горит-догорает. Сто тридцать тысяч марок. Еще один такой «костер», еще две-три бомбы в торговый дом Йозефа Бланка, одна-две — в его сад и дом, — а это вполне может случиться, не сегодня, так завтра, — и он снова станет тем, чем был десять лет назад. Только тогда он был гораздо моложе и удачливей! А теперь… Он вдруг почти физически почувствовал незримое присутствие того, что, затаившись по углам, подстерегало его все эти годы, того, что он так упорно гнал от себя, не пускал в свою жизнь, старался забыть, пока его собственное добро было в безопасности, — сомнения и страх, который он до сих пор держал в узде с помощью другого страха, внезапно вырвались из своих клеток и уставились на него в упор со всех сторон; они нахально ухмылялись ему из-под развалин табачной лавки, они таращились на него сверху, оседлав руины здания, в котором помещалась «Мелленер Цайтунг», они не спускали с него глаз и указывали своими мерзкими лапами в будущее. Толстый красный загривок Нойбауера покрылся испариной, он пошатнулся, в глазах у него помутилось. Он окончательно понял, но все еще не хотел признаться себе в этом: эту войну уже невозможно было выиграть.
— Нет! — вырвалось у него. — Нет-нет… фюрер… еще должен… Ну конечно!.. Чудо-оружие… несмотря ни на что…
Он оглянулся. Вокруг не было никого. Даже пожарников.
Наконец, Сельма Нойбауер умолкла. Лицо ее распухло, шелковый французский пеньюар был мокрым от слез, толстые руки тряслись.
— Этой ночью они не вернутся, — сказал Нойбауер без особой уверенности в голосе. — Весь город горит. Что им тут еще бомбить?
— Твой дом. Твою торговую фирму. Твой сад. Они ведь еще стоят, верно?
Нойбауер подавил в себе злость и внезапный страх при мысли, что так, возможно, и будет.
— Что ты болтаешь! Так они тебе и прилетели — специально, чтобы разбомбить мой дом, мой сад!..
— Другие дома. Другие магазины. Другие фабрики. Они найдут, что бомбить.
— Сельма…
— Можешь говорить, что хочешь — я перебираюсь к тебе! — Лицо ее вновь раскраснелось. — Я перебираюсь к тебе в лагерь, даже если мне придется спать вместе с заключенными! Я не останусь в городе! В этой мышеловке! Я не хочу погибать! Тебе, конечно, все это безразлично — лишь бы самому быть в безопасности! Подальше от греха! Как всегда! А мы должны за тебя отдуваться! Ты всегда был таким!
— Я никогда не был таким, — с обидой в голосе ответил Нойбауер. — И ты это знаешь! Посмотри на свои платья! На свои туфли! Пеньюары! Все из Парижа! Кто тебе все это покупал? А шуба? А меховое одеяло? Специально для тебя присланы из Варшавы по моему приказу… Загляни в погреб! Посмотри на свой дом! Я тебе создал все условия!
— Ты забыл только одно — гроб. Но еще не поздно его заказать, если поторопиться: завтра утром гробы будут очень дорого стоить. В Германии их уже почти не осталось. Но для тебя ведь это не проблема — ты можешь приказать там наверху, у себя в лагере, чтобы для меня срочно сколотили гроб. У тебя ведь хватает людей.
— Вот как ты меня отблагодарила!.. Вот, значит, твоя благодарность за все, что я для тебя сделал, рискуя собственной шеей! Вот она, твоя благодарность!..
Сельма Нойбауер не слушала мужа.
— Я не хочу сгореть заживо! Я не хочу, чтобы меня разорвало на куски! — Она повернулась к дочери. — Фрейя! Ты слышишь, что говорит твой отец? Твой родной отец! Все, что нам от него нужно — это спать в его доме, там наверху. И больше ничего. Мы хотим всего лишь спасти нашу жизнь. А он отказывает нам. «Партия»! «Что скажет Дитц?» А что твой Дитц говорит насчет бомб? Почему партия ничего не делает, чтобы их не было? «Партия»…
— Тихо, Сельма!
— «Тихо, Сельма!» Ты слышишь, Фрейя? «Тихо!», «Стоять смирно!», «Умирать молча!», «Тихо, Сельма!» — это все, что он знает!
— Пятьдесят тысяч человек в таком же положении, как и мы… — устало произнес Нойбауер. — Все…
— Мне наплевать на твои пятьдесят тысяч человек! Эти пятьдесят тысяч человек тоже не заплачут по мне, если я сдохну. Прибереги свою статистику для партийных собраний.
— Боже мой…
— Что? «Боже»?.. Где это ты увидел Бога? Вы ведь его прогнали! И не смей даже заикаться о Боге!
«Почему я не влеплю ей разок-другой? — думал Нойбауер. — Отчего я вдруг так устал? А хорошо бы ей врезать!.. Показать характер! Сказать свое слово! Потерять сто тысяч марок и после этого терпеть бабскую истерику! Не-ет, надо ей напомнить, кто глава семьи… Спасти! Что? Что спасти? Где?»
Он опустился в кресло. Он не знал, что это превосходное, обтянутое гобеленом кресло восемнадцатого века когда-то принадлежало графине Ламбер, — для него это было просто кресло, которое богато выглядит, из-за чего он и купил его вместе с некоторыми другими вещами у одного майора, вернувшегося из Парижа.
— Фрейя, принеси мне бутылку пива.
— Принеси ему бутылку шампанского, Фрейя! Пусть он пьет свое шампанское, пока не взлетел вместе с ним на воздух! Пробки долой! Пх! Пх! Пх! Нужно обмыть очередную победу!
— Перестань, Сельма…
Фрейя ушла в кухню.
— Я тебя еще раз спрашиваю — да или нет? — выпрямившись, решительно произнесла Сельма. — Ты заберешь нас сегодня вечером к себе наверх или нет?
Нойбауер посмотрел на свои сапоги. Они были покрыты пеплом. Пеплом от ста тридцати тысяч марок.
— Если мы сейчас вдруг, ни с того, ни с сего, это сделаем, пойдут разговоры. Не потому, что это запрещено, — просто мы до сих пор этого не делали… Начнут болтать, что я пользуюсь своим служебным положением, в то время как другие вынуждены подвергаться опасности здесь, в городе… И потом, наверху сейчас действительно опаснее, чем здесь. Теперь они примутся за лагерь. У нас ведь там — военное производство.
Кое в чем он был прав. Но главная причина его отказа заключалась в том, что ему хотелось по-прежнему жить одному. Там, в лагере, у него была своя личная жизнь, как он выражался. Газеты, коньяк, время от времени — женщина, которая весила на тридцать килограммов меньше Сельмы, женщина, которая слушала, когда он говорил, которая ценила его ум, восхищалась им как мужчиной и нежным, внимательным кавалером. Невинная забава, в которой он черпал силы для дальнейшей борьбы за существование.