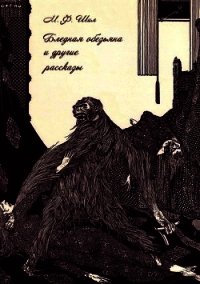Предстоятель Розы и другие рассказы Собрание рассказов. Том III - Шил Мэтью Фиппс
Не было ни потрясения, ни удивления; ибо в глубине души я осознавал, что навеки расстался с миром. Я понимал — уверен в этом — что перенесся в иное существование, где нет ни цветов, ни форм, ни размеров, ни времен, в самый темный угол творения, где не светит свет и не прорастает надежда. И в голове моей проносились странные мысли о грядущей судьбе, о нисхождении от бездн к абсолютному несуществованию, от одной тьмы к другой, еще непрогляднее…
Я не мог стенать, не мог молиться, не мог взывать к своему Богу, я лишь замирал, потрясенный невероятием своей погибели, ибо чувствовал я себя взятым из Его рук, лишенным Его сострадания; и с каждым мгновением я уносился все дальше от мира, где Он вершит свой суд.
И все же, хотя в бесконечном кружении я приближался к смерти, некие слова проникали в мое сознание — слова, которые, кажется, много месяцев не тревожили мой ум. Ибо теперь слышал я хор, как будто певший в немыслимой дали, в небе небес. И вопль десяти тысяч голосов, десять тысяч раз повторявших эти слова, достигал моего слуха. И таков был этот глас, таково было это страстное песнопение: «Если я взойду на Небеса — Он там; если я обрету место в Аду — Он там; если я воспарю на крыльях утра и сокроюсь в дальних глубинах морей — даже там Его рука отыщет меня, и Его верная рука поддержит меня».
Но в тот миг недостаток воздуха стал для меня самым серьезным испытанием — казалось, что не осталось от меня ничего, кроме черепа и глотки, заполненной кровью; я был скован и не мог вырваться… Но даже в этой агонии я думал о смерти и ее природе; любопытство сие немало напоминало шутовские выкрутасы, но оно позволяло отсрочить конечную погибель — да, мне хотелось увидеть собственную смерть.
Капли падали мне на лоб все реже и реже, но я, погруженный в свои страдания, не замечал этого.
Но потом настало мгновение, когда все мои чувства изменило невероятное, удивительное движение. Ибо я почувствовал резкий удар; бочонок как будто отбросила в сторону неведомая сила, еще мгновение — и он врезался во что-то. По счастливой случайности я как раз напряг все мускулы, упершись ногами в железный балласт и прижав голову к крышке бочонка. И тотчас почувствовал я сильнейшие удары — первый, второй, третий; бочонок колотился о камни, он рассыпался, а я устремлялся — из смерти в чувственный мир. И хотя мне не хватало времени, чтобы как следует призадуматься о загадочном передвижении по горизонтали по дну океана, меня увлекло нечто еще более загадочное — звук в мире вечной тишины — рев, который вскорости превратился в настоящее буйство. Пока это буйство усиливалось, я начинал осознавать, что мчусь по огромному туннелю, толчки и удары становились все чаще и сильнее; и я каким-то неведомым образом догадался, что приближаюсь к источнику звука — вниз и вперед… Мне, заплутавшему в оглушительной тьме, не удалось понять, сколь долго продлилось путешествие; это могла быть минута или пять минут, миля или двадцать миль; но потом настал миг, когда бочонок подскочил и взлетел; он крутился в полете, а потом рухнул на камни — и от удара я лишился сознания.
Этот последний удар был настолько неожиданным и резким, что я, очнувшись по прошествии нескольких часов, не сомневался, что уже мертв. Мысленно я повторял слова: «Дух есть слух, и Вечность есть шум».
Поначалу я казался самому себе существом, наделенным одним-единственным чувством, поскольку, поднеся руки к лицу, тщетно старался я разглядеть хоть что-нибудь; тело мое, насколько я был осведомлен, теперь для меня утрачено и уничтожено; и я обратился в слух, единственное предназначение коего — улавливать тот непрекращающийся рев, каковой заменял всю вселенную; и снова и снова я повторял про себя: «Да, дух есть слух, и Вечность есть шум».
И я провел немало минут, заинтересованно вслушиваясь в неумолчный рев, который словно бы доносился из некой гигантской раковины — и ангельские голоса сливались в хоре… Я был уверен, что расстался с телом, еще и потому, что каким-то образом покинул бочонок — ведь теперь я мог дышать свободно. Но потом, окончательно придя в сознание, я почувствовал запах застоявшейся морской воды, смешанный с запахом тухлой солонины — и тогда я уверился, что по-прежнему жив. Я вытянул руки и наконец-то догадался, почему могу дышать. Дно бочонка было выбито, один обруч слетел, клепки на нем разошлись; я лежал на спине, а балласт и днище бочонка придавили мне ноги — выходит, бочонок попросту опрокинулся.
Следующее обстоятельство, которое я отметил — поверхность, на которую выбросило бочонок, сильно содрогалась, словно в лихорадке.
Я заговорил сам с собой, попытавшись (это потребовало некоторых усилий) восстановить все обстоятельства своих злоключений: сначала меня сбросили в бочонке с борта корабля «Сан Маттео» — полагаю, не меньше ста лет назад; потом я несомненно упал на дно морское; здесь некое подводное течение подхватило меня и понесло по некому туннелю; видимо, началом этого течения был водоворот, замеченный мной в тихой заводи — за несколько минут до того, как меня заперли в бочонке. Морское течение пронесло бочонок по подводному коридору в пещеру или какое-то пустое пространство в толще земли; бочонок, вылетев из туннеля, ударился о скалу и разбился. Вероятно, в пещере содержался воздух, скопившийся здесь в результате неких природных потрясений — по этой причине я мог дышать. А неумолчный рев — шум океанской воды, вырывающейся из жерла тоннеля; под ее тяжестью содрогаются даже скалы.
Вот к каким выводам я пришел; судя по мощному эху, можно было предположить, что пустое пространство, куда низвергается вода, беспредельно велико. Более ничего я добавить не мог — но, осознав все случившееся, я закрыл лицо руками и вознес молитву; ибо помимо громоподобного шума, слышались и иные звуки, и все они смешивались в безумном хаосе; я не мог описать их, но одна лишь лихорадочная дрожь земли напоминала о могучем призыве Вездесущего Бога; и стенания вырвались из моей груди, когда я постиг все величие открывшегося мне места.
Поднеся к глазам руки, чтобы вытереть слезы, я ощутил на пальцах что-то грязное и зернистое [8], возможно, просыпавшееся через разбитое днище бочонка. Я смахнул этот песок, а потом, морщась от боли, поднял голову и постарался привстать. Несомненно, мне следовало подумать о неизбежной смерти от жажды и недостатка пищи; но я хотел встретить свой смертный час свободным, и я выполз из своей тюрьмы, словно цыпленок из скорлупы.
В кармане у меня лежала трутница, но в помрачении чувств я даже не вспомнил о ней, я полз по грязи, вслепую протягивая руки, чувствуя морось, источник которой я не мог определить. Я двигался медленно, поскольку обнаружил, что мое правое бедро как будто сломано, а тело мое сильно избито; и едва я сделал десять шагов, нога моя нащупала пустоту, и я полетел вниз с громким криком.
Мое падение прервалось, когда я рухнул в теплую воду; вынырнув, я почувствовал на лице какую-то вонючую слизь. Я тотчас поплыл обратно к скале, с которой упал; теперь мне стало ясно, что дно пещеры занимает море или соленый пруд, а бочонок разбился о какой-то островок в этом внутреннем море. Но мои попытки выбраться на остров не увенчались успехом, так как течение усилилось и в итоге стало настолько мощным, что я думал только о том, как бы удержать голову над водой. Когда я осознал степень своего одиночества, то почти тотчас же начал тонуть и даже захлебываться, как многие тонущие. Но прежде, чем я потерял сознание, течение вынесло меня на берег, где, уцепившись за какое-то бревно, я выполз из воды, коснувшись все той же зернистой грязи, а потом погрузился в сон, продлившийся, полагаю, не менее двух суток.
Я начал просыпаться — и шум воды в ушах моих стал бессмертной музыкой; в сердце своем не находил я подобных радостных впечатлений; и я сидел неподвижно и слушал, боясь пошевелиться, ибо если двинуться на ощупь, можно было снова попасть в беду, а глаза мои постепенно привыкали к отсутствию света, и я вперял свой взор в окружающую тьму. Ноги мои касались линии прибоя, ибо я чувствовал, как омывают их волны, гонимые течением; но я не слышал всплеска — я ничего не слышал, кроме звука падения воды, соединенного с эхом, музыка которого казалась мне благозвучной, словно гармонии лютни и удары барабанов, и вскорости этот непрерывный грохот своим тяжеловесным ритмом заполнил мой разум. И мне показалось, что он постепенно стихает, когда я отворачиваюсь, обращается в сумрачный напев — и я забывал о муках голода и неотвратимом приближении смерти; не ведаю, сколь долго вслушивался я в эти звуки, может, часы, а может, дни напролет; ибо не было в том мире Времени, а лишь пение сирен, которое зачаровывало меня, и один час мог обернуться сотней лет, а сотня лет — часом.