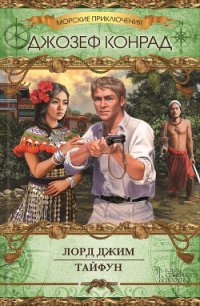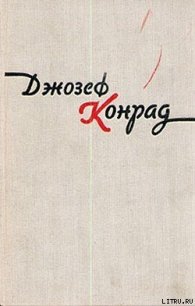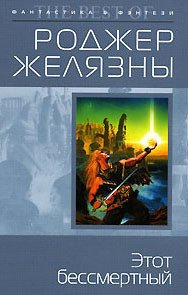Лорд Джим - Конрад Джозеф (книги бесплатно txt) 📗
Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря. А ярость эта проявляется не так часто, как принято думать. Есть много оттенков в опасности приключений и бурь, и только изредка лик событий затягивается мрачной пеленой зловещего умысла: вскрывается неуловимое нечто, и в мозг и в сердце человека закрадывается уверенность в том, что это сплетение событий или бешенство стихий надвигается с целью недоброй, с силой, не поддающейся контролю, с жестокостью необузданной, замышляющей вырвать у человека надежду и возбудить в нем страх, мучительную усталость и стремление к покою… раздавить, уничтожить, стереть все, что он видел, знал, любил, ненавидел, – и насущно необходимое и ненужное – солнечный свет, воспоминания, будущее, – надвигается с жестокостью, замышляющей смести весь мир, просто и безжалостно отняв у человека жизнь.
На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец-капитан впоследствии говорил: «Дружище! Я считаю чудом, что судно выдержало!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, потерявший надежду, словно обретался в бездне непокоя. Его не интересовало, каков будет конец, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством и расплывчатостью человеческой мысли. Страх становится слабее, ничем не подстрекаемое воображение – враг людей, отец всех ужасов – тонет в тупой усталости. Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед ним была картина опустошения в миниатюре, и втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но изредка непобедимая тревога схватывала в тиски его тело, заставляя задыхаться и корчиться под одеялами, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физической агонии, вызывала в нем отчаянное желание спастись во что бы то ни стало. Потом буря миновала, и Джим больше о ней не вспоминал.
Однако он все еще хромал, а когда судно прибыло в один восточный порт, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Он поправлялся медленно, и судно ушло без него.
Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь два больных: баталер с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железнодорожный поставщик из соседней провинции, пораженный какой-то таинственной тропической болезнью. Доктора он считал ослом и втайне злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему контрабандой его неутомимый и преданный слуга тамил. Больные рассказывали друг другу случаи о своей жизни, играли в карты или, в пижамах, валялись по целым дням в кресле, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в окна, всегда раскрытые настежь, приносил в комнату с голыми стенами мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе, о нескончаемых грезах. Каждый день Джим глядел на изгороди садов, крыши домов, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше – туда, на рейд – путь на Восток, – на рейд, усеянный гирляндами островков, залитый праздничным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда, – эта суета напоминала шумный языческий праздник, – а вечно ясное восточное небо и улыбающееся мирное море тянулось вдаль и вширь до самого горизонта.
Как только Джим стал ходить без палки, он спустился в город разузнать о возможности вернуться на родину. В то время благоприятного случая не представлялось, и, выжидая, он, естественно, сошелся в порту с людьми своей профессии. Они были двух сортов. Одни – их было очень мало, и в порту их видели редко – жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом пиратов и глазами мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их фантастическом существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно законченным. Большинство же состояло из людей, которые, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно, вошли в командный состав местных судов. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг – священен, а суда обречены на штормы. Они настроились на вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белым. Они содрогались при мысли о тяжелой работе и, полагаясь на случай, жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение, служа китайцам, арабам, полукровкам… они готовы были служить самому дьяволу, если бы тот предоставил им эту возможность. Неустанно говорили они о случайных удачах: как такой-то получил командование судном, плававшим у берегов Китая – легкая работа; как одному досталось прекрасное место где-то в Японии, а другой преуспевает в сиамском флоте; на всем, что бы они ни говорили, – на всех их поступках, взглядах, манерах, – было пятно – знак гниения – решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.
Джиму эта толпа разглагольствующих моряков казалась сначала менее реальной, чем тени. Но под конец он начал находить очарование в этих людях, якобы преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу вытеснялось иным чувством. Внезапно отказавшись от мысли вернуться на родину, он поступил штурманом на «Патну».
«Патна» была местным пароходом, таким же старым, как холмы, тощим, как борзая, и изъеденным ржавчиной хуже, чем никуда не годный чан для воды. Владельцем ее был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – ренегат, немец из Нового Южного Уэльса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но, – видимо, подражая успешной политике Бисмарка, – тиранил всех тех, кого не боялся, и разгуливал с видом свирепым-и железно-непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разводившего пары у деревянной пристани.
По трем сходням тремя потоками поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, топая и шаркая босыми ногами, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от поручней, растеклись по всей палубе, двинулись на нос и на корму, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, проникающая в выбоины и трещины, как вода, бесшумно поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин – каждый со своими надеждами, верой, привязанностями, воспоминаниями – пришли сюда с севера и юга и с далекого востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау вдоль отмелей, перебирались в маленьких каноэ с острова на остров, терпели тяжелые лишения, видели незнакомые места, испытали неведомый доселе страх, влекомые единым желанием. Они пришли из одиноких хижин в лесной глуши, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Словно по зову, покинули они свои леса, свои просеки, своих защитников-вождей, свои богатства и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, – сильные мужчины во главе своих семей; тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение; юноши с бесстрашными глазами, с любопытством озирающиеся по сторонам; пугливые девочки со спутанными длинными волосами; робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, – спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.
– Посмотрите-ка на этот скот, – сказал немец-шкипер новому своему штурману.
Араб – вождь этих благочестивых странников – явился последним. На борт он поднялся медленно, – красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним следовала вереница слуг, тащивших его пожитки. «Патна» отчалила от пристани.
Она проскользнула между двумя островками и наискось пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруглую тень холма, потом близко подошла к гряде покрытых пеной рифов. Араб, стоя на корме, вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость всевышнего на это путешествие, молил благословить труд людей и тайные их стремления. В сумерках пароход разбил спокойные воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал пламенным глазом, словно насмехаясь над благочестивым паломничеством.