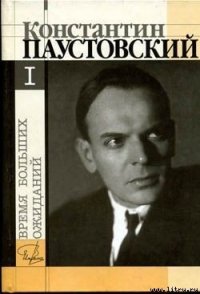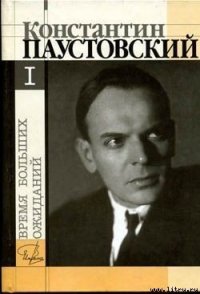Золотая роза - Паустовский Константин Георгиевич (читать книги бесплатно полностью .TXT) 📗
Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгильдяйской манеры писать, из совершенно не обязательных и пустых вещей (они подчеркнуты). Все это ненужные, не характерные, ничего не определяющие подробности.
В поисках и определении подробностей нужен строжайший выбор.
Подробность теснейшим образом связана с тем явлением, которое мы называем интуицией.
Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого.
Интуиция помогает историческим писателям воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их воздух, самое состояние людей, их психику, что по сравнению с нашей была, конечно, несколько иной.
Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать «Каменного гостя», а в «Пире во время чумы» дать картину Англии, не худшую, чем это могли бы сделать Вальтер Скотт или Берне – уроженцы этой туманной страны.
Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом – или о человеке и его состоянии, или о событии, или, наконец, об эпохе.
БЕЛАЯ НОЧЬ
Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.
Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.
На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.
Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, качая куски сосновой коры. На берегу, должно быть, в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы – двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко, этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.
Я не знаю, как назвать томительный свет белой ночи? Загадочным? Или магическим?
Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы – столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.
Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.
Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах.
Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах. Может быть, потому, что она уже осыпалась.
Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он привлек многих писателей, причем было решено работать бригадами, – тогда это слово впервые появилось в литературе.
Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин.
От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда (как и сейчас), что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. В лучшем случае может получиться собрание разнородных очерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенность материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя, со всеми качествами его восприятия действительности, стиля и языка.
Я считал, что так же, как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.
Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насупился, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:
– Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, валяйте! Только оконфузиться вам нельзя – книгу обязательно привозите. Всенепременно!
На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу я напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было сильно облегчить работу. Очевидно, я надеялся протащить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера – белые ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с изогнутыми носами, похожими на лебединые шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами.
Петрозаводск был в то время пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был весь какой-то слюдяной – должно быть, от белого блеска, исходившего от озера, и от белесого, невзрачного, но милого неба.
В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеке и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. История завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, карронский способ литья, водяные машины, нравы – все это давало хороший материал для книги.
Покончив с чтением, я поехал на несколько дней на водопад Кивач и в село Кижи, где была единственная в мире по красоте архитектуры деревянная церковь.
Кивач ревел и волочил в своей стеклянной, упругой воде стоявшие торчком сосновые бревна.
Церковь в Кижах я увидел на закате. Казалось, нужны были руки ювелиров и целые века, чтобы построить это сооружение. Строили же его простые наши плотники и в самые обыкновенные сроки.
Во время этой поездки я видел много озер, лесов, много нежаркого солнца и неярких далей, но мало людей.
В Петрозаводске я прежде всего написал план своей будущей книги. В нем было много истории и описаний, но мало людей.
Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны – совершенно опростившейся старушки, ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знания французского языка.
Я начал писать книгу по плану, но сколько я ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение.
Материал расползался. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не связанные с тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты, – с живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой.
Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет.
(Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях, – чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю, как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину, хотя бы за «Победу», когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться, как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся.)
Ничего нет отвратительнее беспомощности перед материалом.
Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта.
А память нет-нет да и колола меня словами Горького: «Только оконфузиться вам нельзя – книгу обязательно привозите».
Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладевать любым материалом.
Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска.
Мне не с кем было поделиться своей бедой, кроме Серафимы Ионовны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это заметила по каким-то, должно быть, старым учительским навыкам.