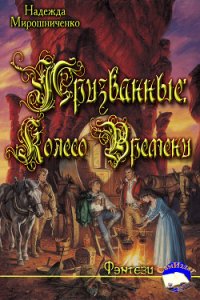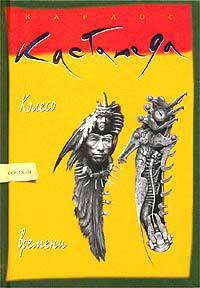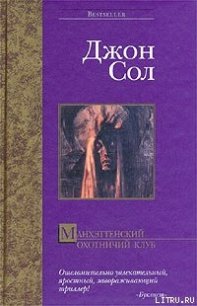Париж интимный (сборник) - Куприн Александр Иванович (читать книги онлайн txt) 📗
Профессор неохотно прислушивается к премудростям Николая Евдокимовича и свысока презирает их, как временные и скучные. Николай Евдокимович осуждает щедрость, безалаберность и глупую доброту профессора, ворчит, кряхтит, журит его и даже позволяет себе иногда осторожно поехидничать. Профессор говорит ему «ты», как раньше говорил престарелому сторожу, служившему тридцать лет при лаборатории. Здесь старая привычка, ласковая фамильярность, покровительственная интимность... Николай Евдокимович говорит «вы» и «господин профессор» с оттенком бережной заботы и почтения, но иногда и с поучительностью старой привязанной няньки.
Сидят теперь оба в Булонском лесу, на железной зеленой скамейке, и ведут беззвучный разговор, и временами профессору кажется, что беспокойные деревья с трепетом прислушиваются к этой беседе и принимают в ней тревожное участие.
VI
Профессор вытягивает перед собой небольшую, но мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрезанную, изморщенную множеством переплетающихся линий, бугров и трещин. Такая рука, вылитая в бронзе, есть только у Бальзака, в музее его имени в Париже, на улице Raynouard, рука великого человека, все знавшая, все испытавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измерившая и взвесившая и тем не менее прекрасная и живая даже в металле.
Профессор Симонов любит Бальзака больше всех иностранных авторов и нередко посещает его скромный музей. Но ему и в голову никогда не приходило сличить его руку со своей. Всего больше в этом простом и маленьком хранилище занимает профессора висящая на стене рамка, в которую вставлен четырехугольный лист ватманской белой бумаги с красивой надписью, сделанной самим Бальзаком:
Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слез, а потому он никогда не брал с собою в музей скептического и слишком земного Николая Евдокимовича.
Профессор долго и внимательно смотрит на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нежной старческой улыбкой и беззвучно говорит:
– Вот здесь, вот именно здесь, заблудилась ее крошечная, так мило жесткая и грязная ручонка. И как она потом нетерпеливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсем точно маленький, вольный, подвижной зверенышек. О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия.
Чтобы яснее вызвать образ маленькой чумазой Жанеты, профессор на минуту плотно зажмуривает глаза и вдруг слышит язвительное ворчание Николая Евдокимовича, этого вечного брюзги, нестерпимого указчика и надоевшего близнеца:
– Ах, господин профессор, господин профессор. Сколько мы с вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастических глупостей по всем долготам и широтам земного шара. И вот, извольте: на почтенном закате дней своих вдруг взять и ошалеть от восторга при виде какой-то грязной, замурзанной шестилетней уличной девчонки, похожей на желторотого птенца. Вот уже третий день идет, как мы крутимся около газетного киоска и без толку покупаем утренние, дневные и вечерние журналы в надежде вновь увидеть, хоть мельком, измазанную детскую мордашку и поймать ее лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаем смотреть с блаженным умилением буддийского святого, взирающего на свой пупок.
Ну да – все это мило, хорошо и трогательно, тем более что вы человек с душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господин профессор, с тем, что наше буколическое увлечение, пожалуй, может показаться нелепым и смешным, если на него посмотреть со стороны зорким и скептическим взглядом.
– Ну и пусть кажется. Какая мне забота до дураков и бездельников и до их свинского воображения? Мои годы, мои седины, моя безукоризненная жизнь – вот моя порука! Свиньей, вроде тебя, мрачной и гнусной свиньей, будет тот, кто усмотрит грязь в том, что меня чуть не до слез умилила эта забавная, чудесная, славная девчурочка. И все тут. Баста!
«Все тут, и баста, все тут, и баста», – шипят качающиеся, переплетающиеся ветви.
Николай Евдокимович сдается:
– Да ведь я что же, господин профессор? Я оскорбительного для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждого народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суеверия и приметы, которые куда как мощнее писаных и печатных законов. И вот тут-то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укрывшемуся от позора и смерти под дружеским, верным и сильным крылом, должно с этими неписаными адатами обращаться как можно осторожнее и деликатнее.
– Перестань, старая шарманка, – раздраженно восклицает профессор, и трепещущие листья повторяют за ним: «Старая, старая шарманка!» Но давнишний лабораторный служитель не сдается.
– Да вы же сами помните, господин профессор, как вы выразили перед хозяйкой киоска свой милый восторг перед ее очаровательной дочкой Жанетой. И как она в ответ на это зачертыхалась? В ее чертыхании вовсе не было зла против вас или Жанеты. Нет, здесь заговорила бессознательная, инстинктивная, многовековая память о борьбе со злыми ларвами в языческие времена и с мерзкими кознями дьявола в эпоху первого, грубого христианства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышав вашу горячую похвалу ее дочке, бессознательно испугалась, – а вдруг у вас дурной глаз. А вдруг вы Жанету сглазите. А вдруг дьявол услышит вашу искреннюю похвалу милой девчурке и от злой ревности возьмет и испортит ее: сделает ее кривобокой, или наведет на ее лицо какую-нибудь гадкую сыпь, или скосит ей глаза. А что касается дурного глаза, то разве не вы сами, господин профессор, девять лет назад поместили в одном теософском английском журнале полунаучную, полумистическую статью под псевдонимом «Немо», в которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что из множества эманаций, выделяемых человеческим организмом, едва ли не самыми мощными флюидами являются флюиды, излучающиеся из человеческого зрачка, столь близко расположенного к мозгу. Через глаза передаются гипнотические волны, и не зрение ли, соединившись с воображением, ткет глубокой ночью цветистые, многообразные сны? И наконец, вовсе не выдумка безответственных романистов (как вы сами говорили) способность человеческих глаз к удивительным световым эффектам. Да, действительно, глаза человека, в зависимости от душевных эмоций, могут сиять, блестеть, вспыхивать молнией, жечь, пронизывать, наводить ужас и повергать ниц. И эту чудесную силу их открыли еще бог знает в какой глубокой древности всё видевшие, всё замечавшие и запоминавшие народы, самые наименования которых стерлись из истории, но которые оставили после себя несокрушимые устные предания. Романисты только ограбили неведомых предков без пользы для себя, между тем как у спокойного простонародья старая мудрость и великий опыт сохранились в темных приметах и суевериях. Вот и спрашивается теперь, господин профессор: правы ли вы были, рассердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?
21
Здесь Рембрандт (фр.) .