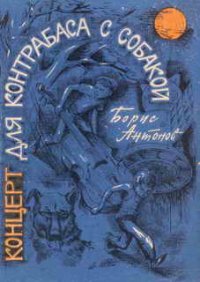Арбат, режимная улица - Ямпольский Борис Самойлович (книги регистрация онлайн TXT) 📗
Я как— то осмелел, все показалось не таким мрачным, безнадежным и конченым.
И в это время резко, дико, как-то взвизгивающе зазвонил телефон. В жизни я не слыхал такого тревожного, требовательного звонка.
— С вами сейчас будут разговаривать, — дотянулся откуда-то издалека жалобный женский голос. И вслед за этим вдруг отбой, частые-частые гудки.
Теперь я стал раздумывать и мучиться, кто же это был, секретарша или телефонистка. Зачем, кому я нужен был? Кому понадобился, кто вспомнил обо мне в этот дикий, смутный день и час моей жизни? Или, может быть, в каких-то списках, где я еще состоял, против моей фамилии не было галочки? Надо было срочно поставить галочку. И снова я обмирал от страха и неизвестности. Пронзительно зазвенел телефон.
— Не отходите от трубочки, сейчас с вами будут разговаривать.
И вслед за этим далекий, милый голос Кати, она говорила из-за города,
— Это ты мне звонила несколько минут назад? — жадно спросил я. — Ты, да?
Я сразу как-то успокоился, сразу как-то включился в мир, где есть люди, есть сестры, братья, любимые, где столько голосов, шепотов, интонаций, где есть вопросы и ответы, достоинство, терпимость, уважение. Все это еще есть? Еще есть?
— Ты что, спал? — спросила она.
— Нет.
— А почему у тебя голос такой странный? Ты болен?
— Нет, не болен.
— Я голоса твоего не узнаю, это ты?
— Я, я.
— Ну, что такое с тобой, что стряслось? Я молчал.
— Что ты молчишь? Что случилось?
Я как бы все время чувствовал в телефоне третьего человека, казалось, разбирал его дыхание, его внимание.
— Нет, ничего не случилось.
— Не нравится мне твое настроение. Я сейчас к тебе приеду.
— Не надо.
— Нет, я приеду.
— Я прощу тебя.
— Но мне нужно к тебе приехать, — сказала она.
— А в чем дело?
Теперь она молчала, и я спрашивал.
— Что случилось?
— Этот разговор не для телефона.
— У тебя что-то случилось? Да?
В ответ — ку-ку, ку-ку, ку-ку… И непонятно было, это она повесила трубку, или разъединил тот, третий, и стало еще тревожнее.
В последние дни какой-то снегирь, серенький, скромный, с бурой грудкой, повадился залетать в открытую форточку моей комнаты, и то сядет на вешалку в глубине комнаты, то на этажерку с книгами. Вдруг услышу трепет крыльев, и немо, удивленно снегирек глядит на меня, словно хочет что-то сказать, а я боюсь шевельнуться, напугать, чтобы не заметался, не разбился о каменные своды, только тихонько, дружески свистну, и он тут же вылетит в форточку и пропадет. А на следующий день опять трепет крыльев, живая дрожь, и снова глядит на меня удивленно-грустно и хочет что-то сказать. И так настойчиво, ежедневно прилетал, что стало думаться, что это душа давно умершего, некогда любившего меня навещает меня, хочет о чем-то предупредить, но сегодня почему-то снегирька не было, и не было, и не было. И это тоже казалось плохим предзнаменованием.
Сначала я исчезну из домовой книги. Сам домоуправ, не доверяя девице-делопроизводителю или старику-бухгалтеру, молча перечеркнет меня крест-накрест и, усмехнувшись, забудет. Нет, не выбыл, не переехал на другую квартиру, в другой город и даже не умер, просто никогда не был, случайно затесался в домовую книгу.
А потом быстро, лихорадочно, таясь, вычеркнут из всех списков, где состоял и против фамилии: аккуратно ставились галочки: членские взносы, нагрузка, собрания, семинар; где получал выговоры с занесением и без занесения в личное дело. Исчезнет и само личное дело.
И только, может, еще в библиотеке долго будет пылиться абонементная карточка, а потом и она исчезнет, навсегда забудут, исчезнут сведения, какие книги любил и читал, чем в жизни интересовался — неоромантизмом или неореализмом, а может, и соцреализмом. Еще некоторое время будут по адресу приходить письма, открытки и, может, даже и переводы, но, словно обжигаясь, беря кончиками пальцев, отнесут в домоуправление, чтобы следовали куда надлежит; а газеты и журналы до конца подписки разойдутся по квартире, и журналы „Огонек" и „Техника молодежи" еще долго будут мелькать в туалете.
Все это я ясно видел и постепенно к этому привыкал. Психика перестраивалась на ходу и не посягала на это.
Придут какие-то чужие, нездешние люди, повесят на двери большую и плоскую сургучную печать, и в запечатанной комнате будет звонить телефон, долго и надсадно звонить, и по ночам вдруг заплачет, заноет, захрипит, как ангинозный больной, и ответит только запечатанная, необратимая тишина, которая известно что означает и которую все быстро поймут. Может, вдруг накатит длинный, ничего не знающий и не рассуждающий междугородный звонок, но и он останется без ответа. И постепенно реже и реже будет звонить, пока не затихнет, не оглохнет совсем. Разве прорвется какой-то шальной, быстрый звоночек по ошибке, или старый, еще школьный товарищ или друг по войне, приехавший в Москву в командировку, ничего не ведая, позвонит
Но скорее всего только повесят сургуч, и сразу же пойдут коллективные заявления перенести аппарат в коридор или на кухню, и можно будет днем и ночью слышать одно и то же: „Он тут больше не живет", „Вам русским языком говорят, таких тут нет". И это тоже известно, что означает, и не надо переводить.
Я видел все так ясно, будто все это уже случилось Я видел жизнь после себя, вторую, третью и десятую серию, которую еще никто не снимал. Однажды утром или в полдень придут представители с портфелями, и с ними домоуправ, и дворник, и понятые, распахнут двери в затхлую комнату и долго и тщательно будут переписывать вещи, выкликая: „Кресло подержанное… матрац подержанный, лампочка электрическая 100 ватт".
И это уже навсегда, необратимо, от этого нельзя отделаться, вылечиться, и из этого не выскочишь тут даже нет надежды на рентген, на облучение, на то что скоро что-то такое откроют, что-то такое сделают, нет никаких упований на знаменитого профессора, на знахаря, на шамана.
Он ждет меня там, под окном, и мне кажется, я вижу тень его на стене. Тренькнул телефон, и я сразу схватил трубку, словно она могла меня спасти, могла помочь выплыть.
— Говорит Алла из парткома, вам известно, что вы агитатор?
— Да, да, я знаю, обязательно, я болен, я сегодня болен, завтра приду, обязательно приду, конечно, Алла, что я, не понимаю?
А день все длился и почему-то не кончался, глядя в окна желтизной вечереющих облаков. А потом зимние сумерки, как чернила, пролились по небу и сгустились во мглу, и воспаленно засветились фары. Улица то заполнялась потоком машин, которые обгоняли друг друга, шли грохочущей железной лавиной, то вдруг сразу, точно обрубали топором, пустела, и тогда становнлось так тихо, что слышно было, как на кухне стучат ножами, отбивая котлеты, потом, как приближающийся водопад, железный грохот, и снова улица до краев наполнялась машинами, которые подступали к самым окнам, и всегда среди них была хоть одна похоронная, с черным крепом по бокам.
За окном что-то вспыхнуло и вздрогнуло, зеленоватый туман поплыл мимо, будто затяжная немецкая ракета, и в комнате стало светло и мертво.
Зажглись фонари.
Я оделся и вышел на кухню. Теперь она была полна, были тут и те, кто всегда дома, всегда у кастрюль, у корыт, и те, кто только пришел с работы и сразу же стал чистить картошку, разделывать рыбу, лепить котлеты.
Женщины яростно накачивали примусы, так же яростно, словно боролись с духами, регулировала пламя керосинок, и то копоть поднималась к потолку, то сокращалась и умирала в буром огоньке, а кто-то из мужчин самозабвенно возился над прибором, похожим на паровоз Уатта. И стояла та напряженная мелочная тишина, которая от одного слова могла взорваться, как динамит, и перейти в потасовку, в пожар или донос с далеко идущими последствиями.