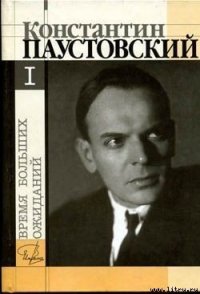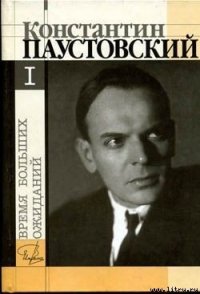Книга скитаний - Паустовский Константин Георгиевич (читаем книги онлайн txt) 📗
Птицелов
В Москве три Обыденских переулка. Название этих переулков вводит людей в заблуждение. Ничего обыденного в них нет. Наоборот, переулки эти отличаются некоторыми приятными качествами. Они сбегают к Москве-реке и упираются в пустынную набережную. По обочинам этих переулков весной даже цветут одуванчики.
Из Пушкина я переехал в Москву, в Обыденский переулок, в подвал старого купеческого особняка. Окно, пробитое ниже уровня земли, выходило в сад, обнесенный высокой кирпичной стеной. Над стеной поблескивал тусклым золотом купол храма Христа Спасителя и его тяжелый крест. В то время этот храм еще не собирались сносить.
Внезапно в один туманный зимний день в Обыденском переулке появился Эдуард Багрицкий. Он впервые приехал в Москву. Прямо с вокзала его привез ко мне Гехт.
Тяжелое астматическое дыхание Багрицкого, влажное хрипение его голоса и смущенный смех сразу напомнили Одессу и редакцию «Моряка».
Багрицкий, расстегивая зеленую бекешу, сказал, как бы утверждая все, что он читал и знал до тех пор о Москве:
– Златоглавая столица! Порфироносная! Азия! Но в общем знайте, что я не буду жить у вас в грубом понимании этого слова. Нет! Я буду стоять постоем!
Он явно храбрился. Но столь же явно было, что он чувствует себя в Москве неуверенно.
Друзья просто заставили его приехать в Москву. Довольно было сиднем сидеть в Одессе, где газеты платили Багрицкому за превосходные стихи по три рубля не за строчку, а за все стихотворение целиком (или, как говорили бухгалтеры, «аккордно»).
Довольно было голодать, продавать последние вещи и мечтать о пачке махорки и «кирпиче» черного мокрого хлеба.
Сейчас же после приезда Багрицкого ко мне в подвал нахлынули одесские литературные мальчики. В то время они уже всем кланом переселились в Москву.
Мальчики расхватали у Багрицкого привезенные стихи – весь этот рокочущий черноморский рассол, все поющие строфы, пахнущие, как водоросли, растертые на ладони.
Мальчики разобрали по рукам стихи, переписанные на щербатой машинке с пересохшей лентой, и ринулись разносить их по редакциям.
Сам Багрицкий этого бы не сделал никогда в жизни. Он боялся выходить на московские улицы. Он задыхался от московской желтой оттепели. Он клокотал бронхами, сидя весь день на тахте, поджав по-турецки ноги, и отдышавшись, читал вслух «Уляляевщину» Сельвинского.
Даже сквозь закрытое окно проникал во двор его певучий, срывающийся голос и знакомые слова:
Багрицкий читал «Уляляевщину» каждый раз по-новому, обыгрывая своим симфоническим голосом ритмы этой поэмы или какое-нибудь одно любимое место:
Я просил Багрицкого, чтобы он прочел мне свои стихи. Они утоляли в то время мою тоску по недавно покинутому Черному морю, по перегретому воздуху в тени одесских акаций. Но он не слушал меня и пел в каком-то самозабвении:
В конце концов он сжалился и прочел мне свои стихи, но не о море, а немного печальные и светлые стихи о непобедимой молодости:
Я не знал тогда, что это стихи не Багрицкого, а какого-то другого поэта. Но это обстоятельство Багрицкий, очевидно, считал несущественным, так как ничего не сказал мне об этом.
У него были свои понятия о принадлежности поэзии тому или иному поэту. Очевидно, для него стихи, как воздух, как солнечное тепло были всеобщим достоянием.
Мне даже казалось, что, например, стихи Блока о командоре, или «Веселые нищие» Бернса, или сказание Де-Костера о Тиле Уленшпигеле – все это он считал как бы написанным не только Блоком, Бернсом или Де-Костером, но и им, Багрицким. Все это принадлежало ему хотя бы по той причине, что он умел открыть в них незамеченные богатства звуков, образов, красок и очарований.
Есть байка о том, что некоторые люди могут взять в руку тугой завиток цветка и от теплоты их рук он распустится со всей пышностью, на какую способен.
Чужие стихи как бы расцветали в руках у Багрицкого. Он был веселым феодалом государства поэзии. Он проходил по лугам этой страны, сбивая пыльцу с высоких перезревших цветов, прищурившись от солнечного света, сея богатства широкой рукой. И может быть, к нему больше подходило слово «певец», чем «поэт».
После приезда Багрицкого я сказался больным и почти неделю не ходил на службу в РОСТА. Я предпочитал весь день болтать с Багрицким, готовить скудную нашу пищу и слушать стихи.
Однажды мне повезло. Я достал мороженого судака. Багрицкий решил зажарить его по «черноморско-греческому способу». Для этого понадобилось кило масла, кило чернослива и лимон. Такая трата была в то время неимоверной, но я не жалел об этом.
Багрицкий засучил рукава, повязался полотенцем, придвинул к раскаленной времянке старое кресло с вылезшей из сиденья паклей (кресло я нашел в дровяном сарае), растопил на сковородке все масло и ждал, потирая руки, пока оно не пошло трещать и взрываться золотыми темными пузырями.
Тогда Багрицкий утопил в кипящем масле куски рыбы, обваленные в муке, и торжественно сказал, почти пропел жирным, наигранным голосом незнакомые стихи:
Отсвет огня играл на смуглом средневековом лице Багрицкого. В то время он был еще худ и напоминал юношу с потемневшей итальянской фрески.
Трещали и румянились ломтики белого судака, синеватый чад вился над сковородой, а Багрицкий плотоядно присвистывал и говорил:
– Вот сейчас вы узнаете, какая это смакатура! Нигде в Греции, даже на острове Митиленакаки, вы не сможете поесть такого судака. Мировая шамовка! – повторил он, когда мы ели этого действительно замечательного судака с жареным черносливом. – Пища титанов и кариатид!