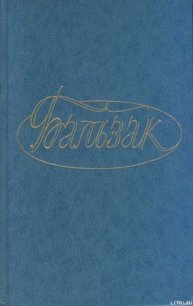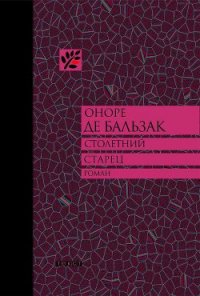Тридцатилетняя женщина - де Бальзак Оноре (читать книги полностью TXT) 📗
— Почему же ты не простилась с моим дружком?
Елена метнула на брата, остановившегося на краю обрыва, страшный взгляд — вряд ли такой взгляд вспыхивал когда-нибудь в глазах ребёнка — и яростно толкнула его. Шарль покатился по крутому склону, налетел на корни, его отбросило на острые прибрежные камни, поранило ему лоб, и он, обливаясь кровью, упал в грязную реку. Вода расступилась, и хорошенькая светлая головка исчезла в мутных речных волнах. Раздались душераздирающие вопли бедного мальчика; но они сейчас же умолкли, их заглушила тина, в которой он исчез с таким шумом, будто ко дну пошёл тяжёлый камень. Всё это произошло с быстротою молнии. Я вскочил, сбежал по тропе. Елена была потрясена и пронзительно кричала:
— Мама, мама!
Мать была здесь, рядом со мною. Она прилетела, как птица. Но ни материнские, ни мои глаза не могли распознать места, где утонул ребёнок. Вода была чёрная, и на огромном пространстве бурлили водовороты. Русло Бьевры в этом месте покрыто слоем грязи футов в десять толщиною. Ребёнку суждено было погибнуть. Спасти его было невозможно. В воскресное утро все ещё отдыхали, нигде не было видно ни лодки, ни рыбаков. Нигде ни шеста, чтобы провести по дну смрадного потока, нигде ни души. Зачем мне было рассказывать об этом печальном случае или о тайне этого несчастья? Быть может, Елена отомстила за отца? Её ревность, без сомнения, была божьей карой. Но я содрогнулся, взглянув на мать. Какому страшному допросу подвергнет её муж, вечный её судья? И с нею будет неподкупный свидетель. В детстве чело светится, кожа на лице прозрачна, и ложь тогда подобна огню, от которого краснеют даже веки. Несчастная ещё не думала о пытке, которая ждала её дома. Она всматривалась в Бьевру.
Такое событие должно было с ужасающей силой отразиться на жизни женщины, и мы расскажем об одном из тех страшных его отзвуков, которые время от времени омрачали любовь Жюли.
Как-то вечером, два-три года спустя, у маркиза де Ванденеса, который в ту пору носил траур по отцу и был занят делами по наследству, сидел нотариус. То не был мелкий нотариус, персонаж Стерна, а раздобревший и самодовольный парижский нотариус, один из тех всеми уважаемых и в меру глупых людей, которые грубо задевают незримые раны, а потом спрашивают, отчего это раздаются стенания. Если случайно они узнают, почему глупость их так убийственна, то говорят: “Ей-богу, я ровно ничего не знал”. Словом, то был благонамеренный дурак, для которого в жизни не существовало ничего, кроме “нотариальных актов”. Рядом с дипломатом сидела г?жа д’Эглемон. Не дождавшись конца обеда, генерал откланялся и повёз своих детей на представление то ли в театр Амбигю-Комик, то ли в Гэте на бульвары. Мелодрамы чрезмерно возбуждают чувства, однако в Париже считается, что они доступны и безвредны для детей, ибо в них всегда торжествует добродетель. Генерал уехал, не дождавшись десерта, потому что сыну и дочке его хотелось приехать в театр до поднятия занавеса, и они не давали отцу покоя.
Нотариус, невозмутимый нотариус, которого ничуть не удивило, что г?жа д’Эглемон отправила детей и мужа в театр, а сама осталась, сидел на стуле как приклеенный. Возник какой-то спор, и десерт затянулся. А теперь слуги медлили с кофе. На всё это, конечно, уходило драгоценное время, и хорошенькая женщина не скрывала нетерпения; её можно было бы сравнить с породистой лошадью, которая перед бегом бьёт копытом землю. Нотариус не разбирался ни в лошадях, ни в женщинах, он просто-напросто думал, что маркиза — женщина живая и бойкая. Он был в восторге оттого, что находится в обществе великосветской дамы и высокопоставленного политического деятеля, и пытался поразить их своим остроумием; притворную улыбку маркизы, выходившей из себя, он принимал за одобрение и продолжал свою болтовню. Уже хозяин дома заодно со своей гостьей не раз позволил себе промолчать, в то время как нотариус ждал от него поощрения; не понимая значения этих красноречивых пауз, чудак, вперив взгляд в горящий камин, силился припомнить ещё какую-нибудь занятную историю. Наконец дипломат прибегнул к помощи часов. Потом маркиза надела шляпу, словно собираясь уйти, однако всё не уходила. Нотариус ничего не замечал, ничего не слышал. Он восхищался собой и был уверен, что маркиза не уходит оттого, что увлечена его рассказами.
“Уж эта дама наверняка будет моей клиенткой”, — думал он.
Маркиза стоя натягивала перчатки, не щадя пальцев, и поглядывала то на маркиза де Ванденеса, который разделял её нетерпение, то на нотариуса, который вынашивал каждую свою остроту. Стоило только этому достойному человеку замолчать, как маркиза и де Ванденес облегчённо вздыхали, обменивались знаками, словно говоря: “Ну, теперь-то он уйдёт”. Но не тут-то было. Им казалось, что это какой-то кошмар; в конце концов влюблённые, на которых нотариус действовал, как змея на птицу, потеряли самообладание, и Ванденес совершил неучтивый поступок. На самом захватывающем месте рассказа о гнусных проделках, путём которых разбогател известный делец дю Тийе, бывший в те времена в чести, о грязных его делишках, о которых высокоумный нотариус повествовал со всеми подробностями, дипломат услышал, что часы пробили девять; он понял, что нотариус безнадёжно глуп, что его надобно без всяких церемоний выпроводить, и прервал его решительным жестом.
— Вам нужны щипцы, маркиз? — спросил нотариус, протягивая их своему клиенту.
— Нет, сударь, я вынужден попрощаться с вами. Госпожа д’Эглемон хочет поехать к своим детям, и я буду иметь честь сопровождать её.
— Уже девять часов! Время бежит, как тень, когда беседуешь с людьми обходительными, — заметил нотариус, который уже целый час разглагольствовал один.
Он взял шляпу, затем встал у камина, еле сдерживая икоту, и обратился к клиенту, не замечая взглядов маркизы, метавших молнии.
— Подведём итоги, маркиз. Дело прежде всего. Завтра же пошлём вызов в суд вашему брату, предъявим ему свои требования; мы приступим к описи, а засим, честное слово…
Нотариус так плохо понял намерения клиента, что собирался повести дело как раз вопреки тем указаниям, которые тот только что дал ему. Это принимало такой оборот, что Ванденесу поневоле пришлось наставить на правильный путь своего тупого нотариуса; начался спор, который длился ещё некоторое время.
— Послушайте, — сказал наконец дипломат по знаку молодой женщины, — мне это надоело, приходите завтра в девять часов вместе с моим поверенным.
— Имею честь обратить ваше внимание, маркиз, на то, что у нас нет уверенности, застанем ли мы завтра утром господина Дероша, а если вызов в суд не будет вручен до полудня, то срок истечёт, и тогда…
Тут во двор въехала карета; услышав шум колес, бедная женщина быстро отвернулась, чтобы скрыть слёзы, выступившие у неё на глазах. Маркиз позвонил, — он собирался сказать, что его ни для кого нет дома, но генерал, нежданно вернувшийся из театра, опередил лакея и вошёл, ведя за руку недовольного, рассерженного сына и дочь, у которой были заплаканные глаза.
— Что случилось? — спросила г?жа д’Эглемон у мужа.
— Расскажу после, — ответил генерал, направляясь в соседний будуар, — дверь туда была открыта, и он заметил на столе в этой комнате газеты.
Маркиза вне себя, с разочарованным видом опустилась на диван.
Нотариус, почитая своею обязанностью приласкать детей, спросил мальчика слащавым тоном:
— Ну как, миленький, что представляли в театре?
— “Долину потока”, — буркнул Гюстав.
— Клянусь честью, — воскликнул нотариус, — писатели в наше время прямо какие-то полоумные! “Долина потока”! Почему не “Поток долины”? В долине может и не быть потока, а сказав “Поток долины”, авторы представили бы нечто чёткое, определённое, характерное, вразумительное. Но оставим это. Далее: разве драма может разыграться в потоке или в долине? Мне возразят, что нынче гвоздь представлений — декорации, а название говорит за то, что декорации в этой пьесе отменные. Вам-то понравилось, дружок? — прибавил он, усаживаясь рядом с мальчиком.