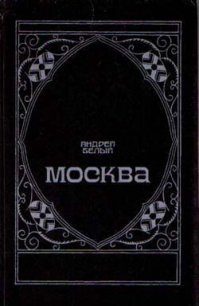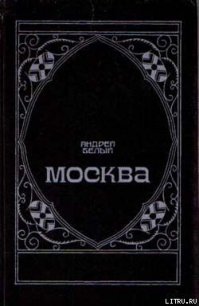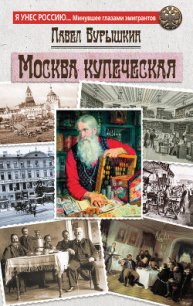Москва под ударом - Белый Андрей (книги бесплатно без онлайн .txt) 📗
Пока жил здесь и гадил Мандро, изучали: Анкашин Иван, починявший здесь трубы, Василий Дергушин с товарищами, с миллионами Клоповиченок всех стран; уж из трещин домов выходила иная порода.
Под черною шторою прятались верно, когда к черной шторе Василий Дергушин пришел; из теней на него посмотрел кто-то, хмурый, немой, синелобый; тогда (это слышал дворецкий) из комнат послышался звук: что-то гекнуло там; и затем что-то дзанкнуло: в рожу Василий Дергушин влепил – у прохода, где статуи горестных жен ничего не услышали; дзанкнула ж горка фарфориков, лилово-розовых, серо-сиреневых – зайцы, пастушки, пейзаночки, изображенье «Лизетты», которой наигрывал на флажолете брюнет в серой шляпе (полями заломленной) свой менуэт: «пасторали над бездной».
И кстати заметим, что с этого мига из дома исчез фон-Мандро.
Да, – его не увидели больше; он – канул без адреса, в тьму растворился: ушел в безызвестие; стал безымянкою он; видно, взявшись одною рукою за баку, другою развеявшись в воздухе, он галопадой помчался – туда, в невыдирную щель, вероятно, оставивши близ гардероба упавший наряд свой – «Мандру»: две руки белой лайки с манжетками (из-под визитки) да голову «папье-машовую» с баками, чтобы пустую и кляклую куклу, упавшую в грудь головою, Василий Дергушин повесил на вешалку в шкаф.
Обнаружилось это в заполночь; искали; вошли в кабинет нерешительно, думая, что здесь висит он; пустел кабинет освещенный; горело пустое сафьянное кресло; весьма вероятно, когда в кресло сел, оно – вспыхнуло; горсточка пепла серела.
Сигарета осыпалась.
Шли дни за днями.
Гладким-гладко в комнатах: где фон-Мандро, где Лиза-ша, мадам Вулеву? Где дворецкий? Одни нафталинные запахи; пусто и гулко; дом выглядел гиблемым; только Василий Дергушин пустым аванзалом ходил; вот он, зал без обой: облицовка стены бледно-палевым камнем, разблещен-ным в отблески; вот барельефы подставок и кариатиды, восставшие с них: ряд гирляндой увенчанных старцев, изогнутых, в стену врастающих, приподымали двенадцать голов и вперялися дырами странно прищурых зрачков в пустоту меж ними; проход: те же страдания горестных жен, поднимающих головы немо, – не слыша, не видя, не зная; зa ними – гостиная; кресла, кругля золоченые львиные лапочки, так грациозно внимали кокетливым полуоборотом друг другу, передавая друг другу фисташковым и мелко крапчатым (крап – серо-розовый) гладким атласом сидений тоску, что на них не садятся; камни в завитках рококо с очень тонкой, ажурной решеткой, часы из фарфора, со-всем небольшой флажолет; темно-серая комнатка: те же диваны да столик; диваны – в подушках, в цветистых, в парчовых и в яркохалатных накладочках, халколиванные ящички, бронза, сияющий камень лампады, пустой кабинет, ярь кричащих сафьянов на фоне гнетущем и синем; малайская комната: пестрень павлиньих хвостов, бамбуки, шкура тигра и негр деревянный; ужасная спальня с постелью двуспальной, атласнолиловой; на тумбочке кто-то ночную мурмолку (по алому полю струя золотая) забыл; вот – столовая, где прожелтели дубовые стены (везде – жолобки, поперечно-продольные) с великолепным буфетом.
Все – цело.
И можно бы было музей оборудовать, надпись повесить: «Здесь жил интереснейший гад, очень редкий, – гад древний: Мандро».
В девятьсот же четырнадцатом здесь печать наложили на все: появилася администрация; после, в пятнадцатом, всю обстановку купил князь Максятинский; до революции жил; в восемнадцатом кто-то пытался внедриться, но был скоро вытеснен, а в двадцать первом здесь весело застрекотали машинки.
Отдел Наркомзема сюда переехал.
Глава третья. УДАР
1
Лизаша свалилась в безгласную тьму.
И – лежала: с опущенной шторою; села потом; в своей бледной, как саван, рубахе, головку и плечики спрятавши в космы: в сваляхи волос; так мертвушей сидела в постели, и – думала, думала.
Думала в тьму.
Из угла чернокожий мальчонок-угодник грозился изогнутым пальцем за бледно-зеленой лампадкой, бросающей мертвельный отблеск; похож был на мальчика, ножик во сне приносившего ей: проколоть; но не «о н» прокололся: она; с той поры пролетели столетья: мерели в ней чувства.
И даже «недавнее» – мертвая грамота.
В тихом мертвенье сидела, как в шкурочке порченой; павшей овечки; росли дыры впадин, стемнясь вокруг глазиков; личико все собралось в кулачок, – неприятненький, маленький.
Раз появилась мадам Эвихкайтен, – с газетой в ручках; и газету просунула:
– Что?
– Фон-Мандро.
– Обанкротился?
– Что?
– Он – сбежал!
– Оказался германским шпионом!!
– Полицией приняты меры.
В газете стоял: сплошной крик; но Лизаша не вскрикнула; в уши слова сострадания замеркосили: так издали; чуяла это; и вся исстрадалась в предчувствиях (с прошлого лета еще); теперь знала она: свой удар мертвоносный таскал за собой; звуки – «дро» («дро» – Ман – «дро»), звуки Доннера, стали теперь звуком «др».
Стал дырою: в дыру провалился.
Она закосила изостренным личиком:
– Нет, – уходите.
– Оставьте, оставьте!
– Оставьте в покое меня!
И свалилась, повесив головку, – зеленой валяшкою: в черную тьму.
Потом встала: такой неумытой зашлепой, – с улыбкой, сказали б, что – гадкой; не чистила зубы; садилась – мертвушею: в угол – за книги, которые кто-то оставил на стошке: Зомбарт («История капитализма»), Карлейль; и – другие; мадам Эвихкайтен просунула нос: сострадать; но просунула нос – только жадность узнать «что-нибудь» поподробнее и попикантнее:
– Ах, ах, – ужасно.
Была моралисткой; и – сальницей.
Вместе с мадам Эвихкайтен какой-то мужчина и пхамкал, и пхамкал: за дверью; и – в двери просился; она – не пустила, узнавши, что – Пхач: оккультист, демонолог (пытался просунуться к ней с утешением): сальник!
Да, – шла черноухая сплетня за нею; и – сплетничал Пхач; и язык, на котором они объяснялись, – язык, на котором в любви объяснялись в покойниках – трупные черви; хотели питаться кровавым растерзом: мерзавец, мерзавица!
Мир – протух в мерзи.
Над книгой порой оживлялася думами:
– Испепелить, сжечь, развеять: поднять революцию!
Сунулась раз голова неизвестной девицы в очках: некрасивая, стриженая:
– Вы – простите меня: я – Харитова; книги мои тут остались.
Лизаша читала Карлейля.
– Читайте, – потом я возьму.
Слово за слово – разговорились; понравилась: не было в ней любопытства к «несчастному случаю», разговорились о книгах; потом – о кружке, изучающем книги; потом – о работе партийной.
– Мы раз в две недели беседуем здесь: рефераты читаем и их обсуждаем; нам здесь – безопаснее: Пхач – оккультист; у него – свой кружок; подозрения – усыплены за спиной оккультиста.
Она рассказала о Киерке, о Переулкине неком, который жил прежде на Пресне, теперь же, скрываясь, капусту сажал в пригородных полях, сажал в ямы эсеров (и меньшевиков), а в минуту свободную о живорыбном садке размышлял.
– Ну, а – Киерко?
И – выходило, что первый он сверщик и сводчик того, что творилось в рабочих кварталах; он был Геркулес, отрубающий головы гидре реакции, вдруг появляясь в глухих переулках Москвы, точно тень; и – скользил вдоль заводов; рабочие с лицами, перекопченными в жаре вагранок, внимали ему, так слова разыгрались в Лизаше:
– Вынослив, как сталь тугоплавная.
– Киерко?
– Собственно, даже не Киерко он, а – Цецерко-Пукиерко.
2
В узеньком платьице из черношерстой материи, кутаясь желтою шалью (дрогливая стала), – просунулась робко в соседнюю комнату; Пхач, – как запхымкает, как зажует жесткий волос усов, залезающий в рот: ничего, кроме волоса, в нем не заметила; весь был покрыт волосами: горилла такая!