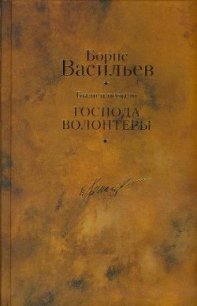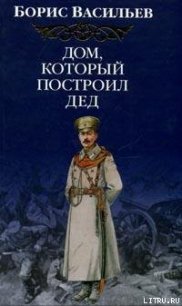Завтра была война… - Васильев Борис Львович (первая книга .TXT) 📗
— Ты устроила панихиду на кладбище? Ты?..
— Мама…
— Молчать! Я предупреждала! — Ремень расстегнулся, конец его гибко скользнул на пол, пряжку мать крепко сжимала в кулаке.
— Мама, подожди…
Ремень взмыл в воздух. Сейчас он должен был опуститься на ее голову, грудь, лицо — куда попадет. Но Искра не закрылась, не тронулась с места. Только побледнела.
— Я очень люблю тебя, мама, но, если ты хоть раз, хоть один раз ударишь меня, я уйду навсегда.
Она сказала это тихо и спокойно, хотя ее всю трясло. Ремень хлестко ударил по полу рядом. Искра дрожащими руками зачем-то поправила старенькое мокрое пальтишко и села к столу.'Спиной к матери.
Она смотрела на извещение, но уже ничего не понимала. Слышала, как упал на пол солдатский ремень, как мать прошла к себе, как тяжело скрипнул стул и чиркнула спичка. Слышала, и ей было до боли жаль мать, но она уже не могла встать и броситься ей на шею. Она уже сделала шаг, сделала вдруг, не готовясь, но, сделав, поняла, что идти нужно до конца. До конца и не оглядываясь, как бы ни были болезненны первые шаги. И поэтому продолжала сидеть, незряче глядя на извещение о бандероли, написанное таким неуловимо знакомым почерком. За спиной опять скрипнул стул, раздались шаги, но Искра не шевельнулась. Мать подошла к шкафу, что-то искала, перекладывала.
— Переоденься. Все переодень — чулки, белье. Ты насквозь мокрая. Пожалуйста.
Искра вздрогнула от незнакомых нежных и усталых интонаций. Ей вдруг захотелось броситься к матери, обнять ее и заплакать. Зареветь, зарыдать отчаянно и беспомощно, как в детстве. Но она сдерживала себя и опять не обернулась.
— Хорошо.
Мать постояла, аккуратно положила белье на кровать и тихо ушла на свою половину. И снова чиркнула спичка.
Глава девятая
Искра так и не поняла, кто послал ей заказную бандероль, но смутное беспокойство не оставило ее и утром. Она долго разглядывала извещение, уже догадываясь, но со страхом отгоняла от себя догадку. А она росла помимо ее воли, и Искра решила сначала зайти на почту: она уже не могла ждать.
На аккуратной бандероли адрес был написан печатными буквами, а отправитель не указан вообще. По виду это были книги, и Искра, забыв о школе, бегом вернулась домой. Едва влетев в комнату, рванула упаковку и села, уронив на колени знакомый томик Есенина и книжку писателя с иностранной фамилией «Грин».
— Ах, Вика, Вика, — со взрослой горечью прошептала она.-Дорогая ты моя Вика…
Искра долго гладила книги дрожащими руками, боясь раскрыть и обнаружить надписи. Но надписей не было, только в Грине лежало письмо. На конверте ровным, теперь таким знакомым почерком было выведено: «Искре Поляковой. Лично». Искра отложила письмо, убрала обертку бандероли, сняла пальтишко, прошла за свой стол, села, положила перед собой книги и лишь тогда вскрыла конверт.
"Дорогая Искра!
Когда ты будешь читать это письмо, мне уже не будет .больно, не будет горько и не будет стыдно. Я бы никому на свете не стала объяснять, почему я делаю то, что сегодня сделаю, но тебе я должна объяснить все, потому что ты — мой самый большой и единственный друг. И еще потому, что я однажды солгала тебе, сказав, что не люблю, а на самом деле я тебя очень люблю и всегда любила, еще с третьего класса, и всегда завидовала самую чуточку. Папа сказал, что в тебе строгая честность, когда ты с Зиной пришла к нам в первый раз и мы пили чай и говорили о Маяковском. И я очень обрадовалась, что у меня есть теперь такая подружка, и стала гордиться нашей дружбой и мечтать. Ну да не надо об этом: мечты мои не сбылись.
А пишу я не для того, чтобы объясниться, а для того, чтобы объяснить. Меня вызывали к следователю, и я знаю, в чем именно обвиняют папу. А я ему верю и не могу от него отказаться и не откажусь никогда, потому что мой папа честный человек, он сам мне сказал, а раз так, то как же я могу отказаться от него? И я все время об этом думаю — о вере в отцов — и твердо убеждена, что только так и надо жить. Если мы перестанем верить своим отцам, верить, что они честные люди, то мы очутимся в пустыне. Тогда ничего не будет, понимаешь, ничего. Пустота одна. Одна пустота останется, а мы сами перестанем быть людьми. Наверное, я плохо излагаю свои мысли, и ты, наверное, изложила бы их лучше, но я знаю одно: нельзя предавать отцов. Нельзя, иначе мы убьем сами себя, своих детей, свое будущее. Мы разорвем мир надвое, мы выроем пропасть между прошлым и настоящим, мы нарушим связь поколений, потому что нет на свете страшнее предательства, чем предательство своего отца.
Нет, я не струсила, Искра, что бы обо мне ни говорили, я не струсила. Я осталась комсомолкой и умираю комсомолкой, а поступаю так потому, что не могу отказаться от своего отца. Не могу и не хочу.
Уже понедельник, скоро начнется первый урок. А вчера я прощалась с вами и с Жоркой Ландысом, который давно был влюблен в меня, я это чувствовала. И поэтому поцеловалась в первый и последний раз в жизни. Сейчас упакую книги, отнесу их на почту и лягу спать. Я не спала ночь, да и предыдущую тоже не спала, и, наверное, усну легко. А книжки эти — тебе на память. Надписывать не хочу.
А мы с тобой ни разу не поцеловались. Ни разу! И я сейчас целую тебя за все прошлое и будущее.
Прощай, моя единственная подружка!
Твоя Вика Люберецкая".
Последние строчки Искра читала как сквозь мутные стекла: слезы застилали глаза. Но она не плакала и не заплакала, дочитав. Медленно положила письмо на стол, бережно разгладила его и, уронив руки, долго сидела не шевелясь. Что-то надорвалось в ней, какая-то струна. И боль от этой лопнувшей струны была совсем взрослой — тоскливой и безнадежной. Она была старше самой Искры, эта новая ее боль.
А в школе шли обычные уроки, только в старших классах они проходили куда тише, чем обычно. И еще в 9 "Б" одна парта оказалась пустой: Искры в школе не было. Зиночка пересела на ее место, к Лене, и пустая парта Вики Люберецкой торчала как надгробие. Преподаватели сразу натыкались на нее взглядом, отводили глаза и Зину не тревожили. И вообще никого не тревожили: никто не вызывал к доске, никто не спрашивал уроков. А потом в коридоре раздались грузные шаги, и в класс вошел Николай Григорьевич. Все встали.
— Простите, Татьяна Ивановна, — сказал он пожилой историчке. — Я попрощаться зашел.
Класс замер. Все сорок три пары глаз в упор смотрели на директора.
— Садитесь.
Сел один Вовик. Он был послушным и сначала исполнял, а потом соображал. Но соображал хорошо.
— Встань!
Вовик послушно вскочил. Николай Григорьевич грустно усмехнулся.
— Вот прощаться зашел. Ухожу. Совсем ухожу. — Он помолчал и улыбнулся. — Трудно расставаться с вами, черти вы полосатые, трудно! В каждый класс захожу, всем говорю: счастливо, мол, вам жить, хорошо, мол, вам учиться. А вам, девятый "Б", этого сказать мало.
Пожилая историчка вдруг громко всхлипнула. Замахала руками, полезла за платком:
— Извините, Николай Григорьевич. Извините, пожалуйста.
— Не расстраивайтесь, Татьяна Ивановна, были бы бойцы, а командиры всегда найдутся. А в этих бойцов я верю: они первый бой выдержали. Они обстрелянные теперь парни и девчата, знают почем фунт лиха. — Он вскинул голову и громко, как перед эскадроном, крикнул:-Я верю в вас, слышите? Верю, что будете настоящими мужчинами и настоящими женщинами! Верю, потому что вы смена наша, второе поколение нашей великой революции! Помните об этом, ребята. Всегда помните!
Директор медленно, вглядываясь в каждое лицо, обвел глазами класс, коротко, по-военному кивнул и вышел. А класс еще долго стоял, глядя на закрытую дверь. И в полной тишине было слышно, как горестно всхлипывает старая учительница.
Трудный был день, очень трудный. Тянулся, точно цепляясь минутой за минуту, что-то тревожное висело в воздухе, сгущалось, оседая и накапливаясь в каждой душе. И взорвалось на последнем уроке.