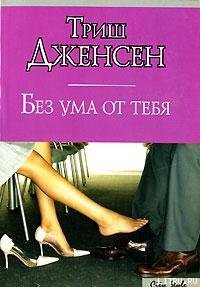Хмурое утро - Толстой Алексей Николаевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
Окончив венчание, он велел молодым поцеловаться и обратился к ним со словом:
– В прежние времена вам говорили притчи, – расскажу вам быль. Лет пятнадцать до революции имел я приход в одном глухом селе. Жил я тогда уже в большом смущении, дорогие мои граждане. Я человек русский, беспокойный, все не по мне, все не так, ото всего мне больно, до всего мне дело: ищу справедливости. И вот один случай окончил мои колебания. Пришел ко мне древний старик, слепой, с поводырем-мальчиком… Из-за онучи вытащил трешницу, тоже старую, помял ее, пощупал, положил передо мной и говорит: «Это тебе за сорокоуст по моей старухе, помяни ее за спокой ее души…» – «Дедушка, говорю, ты трешницу возьми, твою старуху я и так помяну… А ты издалека пришел?» – «Издалёка, десять дён шел». – «Сколько же тебе лет будет?» – «Сбился я, да, пожалуй, за сто». – «Дети есть?» – «Никого, все померли, старуха жива была, шестьдесят лет прожили, привыкли, жалела она меня, и я ее любил, и она померла…» – «Побираешься?» – «Побираюсь… Сделай милость – возьми трешницу, отслужи сорокоуст…» – «Да ладно, говорю, имя скажи». – «Чье?» – «Старухи твоей». Он на меня и уставился незрячими глазами: «Как звали-то ее? Позабыл, запамятовал… Молодая была, молодухой звали, потом хозяйкой звали, а уж потом – старухой да старухой…» – «Как же я без имени поминать ее буду?» Оперся он на дорожный посошок, долго стоял: «Да, говорит, забыл, от скудости это, трудно жили. Ладно, пойду, добьюсь, может люди еще помнят…» Вернулся этот старик уже осенью, достал из-за онучи ту же трешницу: «Узнал, говорит, в деревне один человек вспомнил: Петровной ее звали».
Все шестнадцать невест стояли опустив глаза, поджав губы. Молодые мужья, напряженно-красные от тугих воротов рубашек, стояли обок с ними не шевелясь. И народ затих, слушая.
– Русский человек как бурьян глухой рос, имени своего не помнил. Господа господствовали, купцы денежки пригребали, наше сословие ладаном кадило, и вам бы, красавицам, в те проклятые времена не из жилочки в жилочку горячую кровь переливать, а увядать, как цветам в бурьяне, не расцветши. – Кузьма Кузьмич прервал речь, будто задумавшись, снял камилавку, поскреб лысину. Надежда Власова спросила негромко:
– Теперь можно идтить?
– Нет, подожди… Вот мне на склоне жизни и довелось увидать самое справедливость. Не такая она, как о ней писано у Некрасова. Читали, чай? Нет… и не такая, как мечталось мне, бывало, у речки, вечерком, на одинокой рыбалке, сидя у костерка да похлопывая на шее комаров. Справедливость – воинственная, грозная, непримиримая… Греха нечего таить, – не раз я пугался ее… Как начнут строчить из пулемета да вылетят всадники с клинками, – тут уж не до философии. (По толпе прошел сдержанный смех.) Справедливости не найдешь ни там, – он указал на купол, – ни вокруг себя. Справедливость – это ты сам, бесстрашный человек. Желай и дерзай… Что же вы смотрите на меня? Или я непонятно говорю? Пришел я сюда, чтобы научить вас пировать… Будете вы сегодня, – и он стал указывать рукой поименно, – Оля, Надя, Стеша, Катерина, – плясать так, чтобы половицы стонали, чтобы у Миколая, Федора, Ивана глаза бы горели, как у бешеных. Все… Проповедь кончена…
Кузьма Кузьмич повернулся к народу спиной и пошел в ризницу.
Комиссар полка, Иван Гора, вернулся из Царицына, где ему рассказали, что продотряды, приезжие из Петрограда и Москвы, не всегда справляются с задачей. Люди в них попадаются неопытные, озлобленные от голода и, видя, как в деревне едят гусей, теряют самообладание. Один такой отряд исчез без вести, другой был обнаружен на станции Воронеж в запечатанном товарном вагоне, там лежали трое питерских рабочих со вспоротыми животами, набитыми зерном, у одного прибита ко лбу записка: «Жри досыта».
Комиссар обещал царицынским товарищам помочь. По возвращении в полк он начал подбирать людей в отряды, предварительно ведя с ними беседы. В село Спасское назначил ехать Латугину, Байкову и Задуйвитру; вызвал их к себе в хату, – где раньше было голо и нетоплено, а теперь, когда вернулась из госпиталя Агриппина, пол был подметен, у порога лежала рогожа, на столе – вышитое полотенце, и пахло уже не кислой махрой, а печеным хлебом, – попросил товарищей хорошенько вытереть ноги.
– Седайте. Что скажете хорошего?
– Ты что скажешь? – ответил Латугин.
– Да вот слышал, будто наши ребята не с охотой едут за хлебом.
– А при чем – охота, неохота? Надо – поехали. Тебе еще – с охотой!
– Да дело-то очень тонкое.
Иван Гора, сидя спиной к окошку, обратился к Задуйвитру, угрюмо стучавшему ногтями по столу:
– Ты, хлебороб, что об этих делах думаешь?
– Тебе сколько пшеницы надо взять в Спасском?
– Многовато. Со ста шестидесяти двух дворов – четыре с половиной тысячи пудов зерна, по классовой разверстке, само собой…
– Столько вряд ли дадут.
– Затем вас и посылаю, чтобы дали. Посылаю без оружия, товарищи.
– Оно и ни к чему, – проворчал Латугин.
– Без него бойче будешь доказывать, – сказал Байков, подмигнув. – Не к врагам едем, – к своим.
– И к своим, и к врагам, – сурово сказал Иван Гора.
– Слушай, комиссар, – сказал Задуйвитер, – я не прячусь, заметь это. Но не наше все-таки это дело – в чужие амбары лазить. Противно.
– А ты как думаешь, Латугин?
– Не лезь ты ко мне в душу, Иван… Привезем тебе хлеб и – точка.
– А ты, Байков?
– А я помор, я человек артельный.
– Товарищи, вот для чего я вас позвал. – Иван Гора положил большие руки на стол и стал говорить тихим голосом, как батька с сыновьями: – Хлебная монополия – это становая жила революции. Отмени сейчас монополию, – сколько бы мы пота и крови своей ни проливали, – хозяином окажется кулак. Не прежний лавочник, с ведерным самоваром, но – подкованный, в семи щелоках вываренный, каленый…
– Да какой – кулак, кулак? – крикнул Задуйвитер. – Растолкуй ты мне. У меня в хозяйстве две коровы. Кто я?
– Не в коровах дело, а чья будет власть? Деревенский кулачок день и ночь об этом думает. Он и работника отпустил, он и корову зарезал, и землю осенью не пахал, и на митингах кричит, голосует за Советы. Он крепенький, как блоха.
– Хорошо, Иван… Я домой вернулся, купил еще корову или пару волов. Тогда как?
– А ты волей или неволей пошел в Красную Армию?
– Ну, волей, – согласился Задуйвитер.
– Тогда волов не купишь…
– Почему? Не знаю – почему бы мне не купить волов.
– Интерес у тебя должен быть шире, не из-за этих же двух волов ты взял винтовку…
– Да купит он волов, – сказал Латугин, – чего ты его мучаешь. Говори дальше.
Иван Гора качнул головой, усмехаясь:
– Спорить не стану, а хочется в человека верить. Ну, ладно… Какая же задача у этого класса? Задача у кулака – перехватить хлебную торговлю. Революция ему раскрыла глаза, он уж теперь не деревенскую лавчонку, не кабак видит во сне, – видит элеваторы да пароходы. Если он революцию оседлает, поработаешь ты на него, Задуйвитер, до кровавого пота, и твои волы будут его волы. Он и монополию думает повернуть к своей выгоде. Был случай, – приезжаем мы в село с продотрядом; как ни бьемся, – все мимо: вражда, никакие слова не действуют. Ихний кровопивец, Бабулин, – в плохоньком тулупчике, в худых валенках, ласковый, смирный, только все бороденку покусывает… Что, думаю, такое? Мы в амбары к нему, – там ни зерна. Само собой, порыли, – ничего нет. На скотном дворе – паршивенькая лошаденка да две коровьих шкуры под крышей. Что же он сделал? Узнал, сукин кот, о нашем приезде, пошел по мужичкам: «Ах да ах, царские исправники вас так не мучили, как мучает советская власть. Мне-то, говорит, все равно, я к дочери в город переберусь, дочь моя – за председателем исполкома, а вы – уж не знаю – как этот год переживете. Большевики все берут, и солому у вас с крыш возьмут для Красной Армии… Бог любит милостливых, – идите, братцы, ко мне в амбары, берите хлеб до последнего зерна, живы будем – сосчитаемся…» Расписочки все-таки он с них взял, но – благодетель… Нам он ничего не дал, а зерно свое с мужиков вернет вдвое. Он мал, да он – везде, его много. Справиться с ним нелегко. Он тысячу лет сидит у мужичьего рта, он знает – кого за какую нитку потянуть. Да, ребята, хлебная монополия – капитальное, дальновидное дело. Тяжелое, – правильно. А чего легко-то делается? Целину пахать всегда трудно. Легко только на балалайке играть… Если крестьянин этой большой политики не понимает, – виноват в первую голову ты. Заходишь ты на зажиточный двор, говоришь хозяину: «Отопри амбар». Каждое зерно в нем как слеза. Но каждое зерно – святое, для святого дела.