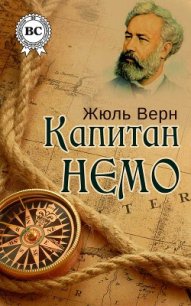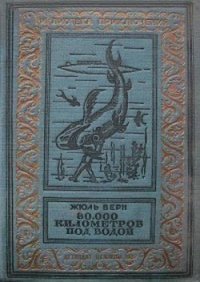Библиотека капитана Немо(Роман) - Энквист Пер Улов (читать книги бесплатно .txt) 📗
В библиотеке много записей про вину. Но вряд ли то, что я спилил лосиную башню, отпугнуло Врага от Ээвы-Лисы.
Потом ведь наступила осень. И зима, ужасней которой никто не помнил. И в лосиную башню они все равно бы ходить не смогли.
Так что эту вину я вычеркиваю.
Вина, и слезы. И Сына Человеческого не сыскать. Только капитана Немо, ежели он по-прежнему захочет помочь такому бедолаге, как я, вернее, как мы.
В благодетелях большая нужда.
Зима в том году пришла рано.
Снег пошел уже в сентябре, это довольно обычное дело, странно только, что он все шел и шел. В октябре навалило уже под полметра, стояли холода, портовым грузчикам в Буре пришлось закончить работу на месяц раньше, и Свен Хедман ходил с озабоченным видом, потому что жирный кошель превратился в тряпицу для процеживания кофе, как он шутливо выражался в те редкие моменты, когда пытался шутить. Снег придавил своей тяжестью все побережье, и те, кому предстояло отправляться на порубки, знали, что тащиться придется по колено в снегу и за шиворот снега набьется достаточно. Но хуже всего приходилось лошадям — ведь они были взмылены и могли простудиться. У Свена Хедмана не было лошади, но его постоянно одолевали мысли о том, что лошадям будет тяжелее всего.
Я начал заглядывать в зеленый дом, когда становилось известно, что Юсефина ушла помогать с выпечкой. Ведь я знал, что она замолкала и лицо у нее делалось странное, когда она видела меня, и что в деревне болтали всякое. Поэтому так было лучше.
Юханнес ни разу не обмолвился о спиленной лосиной башне. Но Ээва-Лиса изменилась.
Она стала сторониться всех и уже не была такой веселой, как раньше. Однажды, когда я пришел, она сидела на диване и хлюпала носом, а рядом Юханнес, который все повторял — ну миленькая, ну пожалуйста. Непонятно, что с ней произошло. В каком-то отношении она оставалась прежней, и я помню, какой нежной казалась ее кожа, когда я в шутку брал ее за руку. От нее пахло мылом, и она была нежная. Но она изменилась. Она чуточку поправилась, не так чтобы стала толстой, нет, просто немножко пополнела, может, округлилась, во всяком случае, поправилась. Я обычно, приходя и здороваясь, говорил, что «все при ней»; я говорил это от всего сердца, а она смотрела на меня так, будто я сказал какую-нибудь гадость. Так что я всего два раза сказал, что все при ней.
Хотя вообще-то так говорят, желая сделать приятное тому, кому вроде бы не составляет труда удерживать пищу в желудке.
Но она легко раздражалась. Поговорить-то ей было не с кем, кроме Юханнеса и меня. А с тех пор как спилили башню и Враг исчез, точно его никогда и не существовало, точно его выдумал Юханнес, чтобы напугать или чтобы не испытывать стыда, ее окружала еще более плотная тишина.
Как-то раз она была одна дома, когда я пришел.
Юханнес отправился в «Консум», или в «Коппру», как вообще-то называли магазин, но она все равно меня впустила. По-моему, ей хотелось поговорить. Она усадила меня на диван и показала мне свое вязанье. Ей вздумалось научить меня вязать, и я не стал ей сообщать, что Юсефина в свое время научила меня вязать кухонные прихватки.
Первый ряд она вывязала сама, потому что мне не справиться, пояснила она. А потом дала мне попробовать.
Вообще-то странное было чувство. Ээва-Лиса сидела совсем рядом. В платье, которое сама сшила, сообщила она. Первое, которое она сшила сама, то есть все платье от начала до конца — купила ткань, сделала выкройку, раскроила и сшила. Ей хотелось сделать сюрприз маме, или Юсефине Марклюнд, как она ее называла, когда сердилась, или иногда просто Марклюнд, тогда, значит, дело было совсем плохо, радостно поразить маму своим умением. Так она задумала.
Материя была гладкая-прегладкая. Мне позволили пощупать. Это было выходное платье с тюльпанами. Я долго рассматривал цветы, потрогал их. Тюльпаны были перевернуты вверх ногами, росли, так сказать, цветком книзу. Я спросил ее, почему она расположила их таким образом, ведь они обычно растут цветком кверху. Но тогда она снова вроде как изменилась и сказала, что Юсефина тоже обратила на это внимание. При раскройке она случайно перевернула ткань, и теперь цветы росли вверх ногами.
Особого сюрприза не получилось, сказала мама.
Тогда я начал уверять ее, что так даже красивее. И я слышал, что за границей бывают цветы, которые растут вверх ногами, не в районе Стокгольма, а в Нюланде, где есть и пальмы; это далеко, к югу от Нурдмарка, если смотреть с этой стороны.
Не надо думать, будто все тюльпаны одинаковые, сказал я.
И тогда она провела рукой по моим волосам.
— Ты такой же черноволосый, как и я, — произнесла она, — а душа у тебя белая.
Она считала, что у меня умелые руки. И взяла мои ладони в свои, чтобы посмотреть повнимательнее. И сказала, что тыльная сторона нежная и мягкая и, наверно, поэтому-то руки у меня такие умелые и я так быстро все схватываю.
Это было все.
Я часто потом вспоминал, как мы сидели рядышком и упражнялись в вязании. Хотя мне думается, что оно не слишком занимало наши мысли — ни ее, ни мои, — но нам обоим было трудно дышать. Трудно объяснить это тому, кто не бывал в таком положении. И будь я другим, таким же храбрым, как Юханнес, который мог запросто сидеть рядом и говорить: ну миленькая, ну пожалуйста, таким, каким я всегда мечтал быть, но не смог стать, тогда бы я прислонился к ее плечу. И тогда бы щекой прикоснулся к платью, на котором тюльпаны росли вниз головой, к земле, или праху, как говорили в молельном доме. И тогда бы мы были как брат и сестра, и укрылись бы во прахе, где только мы и тюльпаны могут расти, и лежали бы там, свернувшись калачиком, как пиявки в речном иле, и нам бы ни разу не захотелось всплыть и расти, и мы со старшей сестренкой никому бы не раскрыли своих тайн, только друг другу, и ни один из нас никогда бы не покинул другого.
Ей приходилось нелегко с Юсефиной, как я понял. Поскольку обе питали такие большие надежды, они, верно, возненавидели друг друга. Не было бы у них надежд, все сложилось бы лучше. Никто, в общем-то, не пытался понять Юсефину, потому что ее и без этого достаточно уважали, и тогда человек делается очень одиноким.
Но я заметил, что Ээва-Лиса вроде бы как повеселела, когда я сказал насчет тюльпанов. Я говорю «вроде бы как», потому что теперь она уже не могла быть по-настоящему веселой. Но что-то в этом духе.
В детстве многое было «вроде бы как». Когда что-то было «вроде бы как», приходилось долго думать, чтобы понять: все было не таким, каким казалось.
Мама оледенела, и хуже всего было, когда нас с Юханнесом обменяли. Тогда стало хуже всего, и потом так и продолжало быть хуже всего, и она оледенела. Тем, кто оледеневает, наверняка хуже всего. Как Эрикссону из Фальмарксфорсена, которого придавило сосной, и он написал «Милая Мария, пожалуйста, ты…» свободным пальцем. Мама, может, тоже оледенела, хотя у нее даже свободного пальца не было, и снега, чтобы писать на нем, и никого, кому она могла бы написать «Милый». Иногда мне представлялось, что она мечтала заползти в рану на боку Сына Человеческого, где будет тепло и уютно и можно оттаять. И перестать думать о том, что случилось. Но Сын Человеческий не из тех, кто приходит на помощь, когда в нем нуждаются, она это тоже, наверно, узнала.
Куда бы она ни кинула взгляд, кругом виновата. Юханнес не стал эдаким славным мальчуганом, а уж если избранный не стал, так с отвергнутым дело обстояло еще хуже.
И тогда Ээве-Лисе достался злой глаз. Она несла кару. Правда, ее чисто и хорошо одевали и кормили досыта, за этим Юсефина следила. И не держалась за те гроши, которые ей выплачивал приход.
Ни в коем разе. Юсефина не упускала случая подчеркнуть это. Когда об этом заходила речь, не упускала случая подчеркнуть. А так как Сын Человеческий не желал раскрыть ей рану на своем боку, вот и приходилось стоять на морозе и подчеркивать.