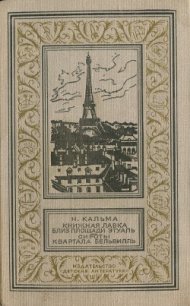Флаги на башнях - Макаренко Антон Семенович (полная версия книги .TXT) 📗
Игорь завтракал и любовался колонистами. Они тоже завтракали, все в школьных костюмах, свежие, чистые, разговаривали друг с другом, негромко смеялись, иногда гримасничали. Поглядывали на сегодняшнего симпатичного дежурного бригадира Лиду Таликову, проходившую между столами.
Вот она остановилась у соседнего стола. Смуглый мальчик поднял на нее глаза. Она спросила у него:
— Филька, ты зачем книги притащил в столовую?
Он встал за столом, ответил:
— Так, очень нужно, я хотел правило повторить.
— Тебе лень после завтрака подняться в спальню за книгами?
Филька ничего не ответил, отвернулся, и выражение у него было такое: говорить она будет недолго, потерплю.
— Что это за манера отворачиваться?
Филька обиделся:
— Никакая вовсе манера, а что ж я буду говорить?
— Чтобы этого больше не было. Нельзя учебники носить в столовую. И отворачиваться нечего.
Филька облегченно вздохнул, поднял руку:
— Есть, книг не носить.
Когда Лида удалилась, все четыре стриженные тголовы сблизились, пошептали, потом одна оглянулась на Лиду, снова пошептали. Лида подошла к Игорю, они обернулись тоже к Игорю.
— Чернявин, ты сегодня выходишь на работу?
Игорь открыл рот. Гонтарь сказал строго:
— Встань.
Игорь поднялся.
— Не выхожу.
— У нас не хватает рабочих рук, ты об этом знаешь?
— Я не собираюсь быть столяром.
Лида пояснила ему ласково:
— А если на нас нападут враги, ты скажешь, я не собюираюсь быть военным?
— Враги, это другое дело.
И тот самый Филька, который только что отвечал перед дежурной, сказал своему столу, но сказал очень громко, на всю столовую:
— Это другое дело! Он тогда под кровать залезет.
Лида строго посмотрела на Фильку. Он улыбнулся ей проказливо и радостно, как сестре.
— Значит, не выйдешь?
— Нет.
Лида что-то записала в блокнот и отошла.
После обеда Игорь читал книгу: нашел в тумбочке Санчо «Партизаны». В спальню вошел Бегунок, вытянулся у дверей.
— Товарищ Чернявин! ССК передал: в пять часов вечера совет бригадиров. Чтобы ты пришел. Отдуваться тебе.
— Хорошо.
— ПРидешь или приводить надо?
Володя спросил серьезно, даже губами что-то проделывал от серьезности при слотве «приводить».
— Приду.
— Ну смотри, в пять часов быть ву совете.
Помолчали.
— Чего же ты не отвечаешь?
Игорь глянул на его серьезную, требовательную мордочку, вскочил, сказал со смехом:
— Есть, в пять часов быть в совете!
— То-то же! — строго сказал Володя и удалился.
28. ПОСЛЕ ДОЖДЯ
В четыре часа прошла гроза. По лесу била аккуратно, весело, как будто договор выполняла, колонию обходила ударами, поливала крупным, густым, сильным дождем. Пацаны в одних трусиках бегали под дождем и что-то кричали друг другу. Потом гроза ушла на город, над колонией остались домашние хозяйственные тучки и тихонько сеяли теплым дождиком. Пацаны побежали переодеваться. Более солидные люди, переждав ливень, быстро на носках перебегали от здания к зданию. У парадного входа, с винтовкой, аккуратненькая, розовая Люба Ротштепйн стоит над целой территорией сухих мешков, разостланных на полу, и сегодня пристает к каждому без разбора:
— Ноги!
— Богатов, ноги!
— Беленький, не забывай!
К пацанам, принявшим холодный душ, она относится с нескрываемым осуждением:
— Все равно не пущу.
— Да я вытер ноги, Люба!
— Все равно с тебя течет.
— Так что же мне, высыхать?
— Высыхай.
— Так этио долго.
Но Люба не отвечает и сердито поглядывает в сторону. Пацан кричит кому-то в окно на втором этаже, тому, кого не видно и, может быть, даже в комнате нет, кричит долго,
— Колька! Колька! Колька!
Наконец кто-то выглядывает:
— Чего тебе?
— Полотенце брось.
Через минуту натертый докрасна пацан улыбается подобревшей Любе и пробегает в вестибюль.
В пять часов Володя проиграл «сбор бригадиров», посмотрел на дождик и ушел в здание.
К парадному входу прибрел совершенно промокший, без шапки, в истоптанных ботинках, похудевший и побледневший Ваня Гальченко. Он остановился против входа и осторожно посмотрел на великолепную Любу.
— Ты откуда, мальчик?
— Я. Я пришел сюда…
— Вижу, что ты пришел, а не приехал. А кого тебе нужно?
— Примут меня в колонию?
— Скорый ты какой. У тебя есть ордер?
— Какой ордер?
— Бумажка какая-нибудь есть?
— Бумажки нету.
— А как же? По чему тебя принимать?
Ваня развел руками и пристально посмотрел на Любу. Люба улыбнулась.
— Чего ты на дожде мокнешь? Стань сюда… Только тебя не примут.
Ваня вошел в вестибюль. Стал на мешках, засмотрелся на дождь. Глянул на Любу, быстро рукавом вытер слезы.
В этот самый момент Игорь Чернявин стоял на середине в комнате совета бригадиров и «отдувался». Народу в комнате было много. На бесконечном диване сидели не только бригадиры, сидели еще и другие колонисты, всего человек сорок. Из восьмой бригады, кроме Нестеренко, были здесь Зорин, Гонтарь, Остапчин. Рядом с Зориным сидел большеглазый, черноволосый Марк Грингауз, секретарь комсомольской ячейки, и печально улыбался, может быть, думал о чем-то своем, а может быть, об Игоре Чернявине — разобрать было трудно. За столом СССК сидели Виктор Торский и Алексей Степанович. В дверях стояли пацаны и впереди всех Володя Бегунок. Все внимательно слушали Игоря, а Игорь говорил:
— Разве я не хочу работать? Я в сборочном цехе не хочу работать. Это, понимаете, мне не подходит. Чистить проножки, какой же смысл?
Он замолчал, внимательно провел взглядом по лицам сидящих. На лицах выражалось нетерпение и досада, это Игорю понравилось. Он улыбнулся и посмотрел на заведующего. Лицо Захарова ничего не выражало. Над большой пепельницей он осторожно и пристально маленьким ножиком чинил карандаш.
— Дай слово, — сказал Гонтарь.
Виктор кивнул. Гонтарь встал, вытянул вперед правую руку:
— Черт его знает! Сколько их таких еще будет? Я живу в колонии пятый год, а их, таких барчуков, стояло в этой самой комнате человек, наверное, тридцать.
— Больше, — поправил кто-то.
— И каждый торочит одно и то же. Аж надоело. Он не собирается быть сборщиком. А что он умеет делать, спросите? Жрать и спать, больше ничего. Придет сюда, его, конечно, вымоют, а он станет на середину и сейчас же: я не буду сборщиком. А кем он будет? Угадайте, чем он будет. Дармоедом будет, так и видно. Я понимаю, один такой пришел, другой, третий. А то сколько! А мы уговариваем и уговариваем. А я предлагаю: содрать с него одежду, выдать его барахло, иди! Одного выставим, все будут знать.
Зырянский крикнул:
— Правильно!
Виктор остановил:
— Не перебивай. Возьмешь потом слово.
— Да никакого слова я не хочу. Стоит он того, чтобы еще слово брать? Он не хочет быть столяром, а мы все столяры? Почему мы должны его кормить, почему? Выставить, показать дорогу.
— Его нельзя выставить, пропадет, — спокойно сказал Нестеренко.
— И хорошо. И пускай пропадает.
В совете загудели сочувственно. Высокий, полудетский голос выделился:
— Прекратить разговоры и голосовать.
Игорь навел четкое ухо, надеялся услыштать что-либо более к себе расположенное. Захаров все чинил свой карандаш. В голове Игоря промелькнуло: «А, пожалуй, выгонят». И стало вдруг непривычно тревожно.
На парадном входе Люба спросила грустного Ваню Гальченко:
— Ты где живешь?
— Нигде.
— Как это «нигде»? Вообще ты живешь или умер?
— Вообще? Вообще живу, а так нет.
— А ночуешь где?
— Вообще, да?
— Что у тебя за глупый разговор? Где ты сегодня спал?
— Сегодня? Там… в одном доме… в сарае спал. А почему меня не примут?
— У нас мест нет, а мы тебя не знаем.
Ваня снова загрустил и снова ему захотелось плакать.