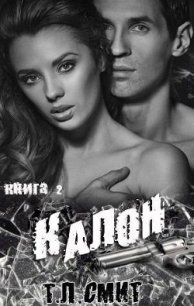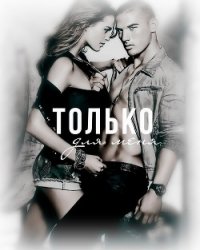Чудная планета (Рассказы) - Демидов Георгий (читать бесплатно полные книги TXT) 📗
С точки зрения профессионального альпиниста Оловянная отнюдь не являлась особенно трудным альпинистским «объектом». Обычная для здешних безлесных угрюмых гор, продолговатая сопка средней высоты. По вертикали от подножия до вершины эта высота едва тянула на какую-нибудь тысячу метров. Склон, по которому совершал свое ежедневное восхождение лагерный развод, был настолько «спокоен», что по нему удалось даже проложить рельсы «бремсберга», канатной железной дороги, обслуживающей рудник. Но добавьте к высоте сопки еще метров триста подъема на пути от лагеря, расположенного километрах в трех от ее подножия, оледените ее склоны осенней и весенней гололедью, завалите их сугробами снега зимой, ударьте в лицо ежедневным «покорителям Оловянной» ураганным ветром высокогорной пурги, обожгите их пятидесяти-шестидесятиградусным морозом, помножьте всё это на число дней в году, и вы получите, далеко еще не полное, представление о трудностях «рекордов», побиваемых подневольными альпинистами. Ежедневные подъемы и спуски были, конечно, только дополнением к четырнадцатичасовому каторжному труду на руднике. Впрочем, многие считали, что дело обстоит наоборот и что этот труд сам лишь дополнение к ежедневному «покорению вершины». Сумма, как известно, от перемены мест слагаемых не меняется, и даже у самых выносливых из «покорителей» окаянной сопки от непривычного высокогорного климата и непомерной нагрузки на сердце развивались болезни, связанные с его расширением. Они-то и сводили в могилу тех из «альпинистов», которые еще раньше не умерли от изнурения и недоедания и не погибли в бесчисленных катастрофах на руднике. О технике безопасности здесь знали только понаслышке и почти о ней не заботились. Было бы нелогично делать крупные производственные затраты ради тех, на чью жизнь здесь в среднем отпускалось не более полутора-двух лет. Почти ежедневно кто-нибудь из совершающих восхождение, а в иные дни и двое, и трое из них, на этот раз уже не могли «взять» вожделенной вершины. Не достигнув ее, они падали, чтобы больше никогда уже не подняться. Не помогали не только мат и угрозы конвоиров, но даже их сапоги и приклады.
Когда лагерный развод добирался до подножия Оловянной, в дни с низкой облачностью уходившей своей вершиной в серые облака, начальник конвоя выкрикивал команду сделать короткий привал. Повторять эту команду ему никогда не приходилось. Вся тысяча человек, а иногда и только триста — это зависело от числа месяцев, прошедших со времени последнего пополнения лагеря, — тут же валилась на снег или камни. И, хотя все знали, что отдых не продлится более пяти минут, большинство сразу же погружалось в сон. Хроническое недосыпание было здесь едва ли не большим бедствием, чем обычная нехватка пищи. За вычетом часов работы на руднике, времени на подъем и спуск в сопки, сборы на развод и стояние у вахты, получение хлеба и баланды, бестолковые поверки и частые «шмоны», на сон у работяг «основного производства» оставалось в иные сутки не более пяти-шести часов. Атак как о выходных днях для заключенных здесь не было речи, то возместить вечную «недоимку» по части сна удавалось только в дни освобождения от работы по болезни. Но получить такое освобождение было тут очень непросто. Для этого, как гласила невеселая лагерная шутка, надо было принести в санчасть «голову под мышкой».
Поэтому насколько охотно выполнялась команда «Садись!», настолько же неохотно люди пробуждались от мгновенно охватившего их свинцового оцепенения. Они тяжело поднимались на ноги, нередко только после конвоирского пинка ногой, и начинали мучительный подъем на гору, на который уходила едва ли не большая часть их слабеющих физических сил.
На этом участке пути конвоиры не окружали колонну заключенных, как обычно, а пропускали ее вперед, чтобы самим замыкать шествие. Если и всегда-то они были больше погонщиками, чем охранниками, то при подъемах на сопку превращались уже исключительно в погонщиков, притом невероятно свирепых. Иначе было нельзя. Развод на склоне Оловянной имел злостную тенденцию растягиваться едва ли не на всю его длину. В то время как голова «колонны» достигала уже вершины сопки, ее хвост плелся в доброй версте от этой вершины, даже при условии непрерывного понукания и толчков прикладами в спины отстающих. Тех, кто валился наземь, вохровцы методически избивали. Делалось это, собственно, не для того, чтобы заставить упавшего подняться на ноги и продолжать путь, такой надежды почти не было — а в назидание остальным. Если дышащего, как запаленная лошадь, доходягу или даже почти совсем не дышащего не дубасить сапогами и прикладами, то много найдется охотников симулировать полное бессилие или сердечный припадок, чтобы быть отправленным в санчасть. Лагерные врачи разберутся, конечно, действительно ли заключенный не мог двигаться дальше или только «придуривался». Но обратно на сопку его уже не пошлют, а это для симулянта немалый выигрыш. А вот если такая удача обойдется ему в отбитые легкие или сломанное ребро, то ни ему впредь, ни остальным зэкам заниматься подобной симуляцией будет уже неповадно. А что касается тех, кто и в самом деле не мог продолжать восхождение, то большинство таких умирало, а остальные превращались в совершенных уже инвалидов, не имеющих ни малейшей ценности как рабочая сила. Следовательно, и церемониться с ними уже нечего. В этом рассуждении была своя логика.
В течение почти года, хотя он был далеко не самым молодым из здешних заключенных, Ученый одним из первых достигал места, где лежали и хватали раскрытыми ртами разреженный воздух те, кому и на этот раз удалось одолеть подъем. Но постепенно «сепаратор сопки» отбрасывал его всё дальше от головы колонны, и теперь он плелся даже не в ее середине. Сердце, про которое он шутил прежде, что не знает толком, где оно находится, давало себя знать всё сильнее и чаще. Одолевала слабость, саднящая боль в груди, ощущение нехватки воздуха. Чем ближе к хвосту колонны он карабкался на гору, тем чаще наблюдал, как кто-нибудь рядом с ним останавливался и хватался за сердце. Потом человек медленно опускался на склон, глядя помутневшими глазами вслед тем, кто, тяжело отрывая от земли ноги, продолжал путь дальше. Чаще всего эти глаза выражали только физическую боль, но иногда еще страх и смертную тоску. В углах рта у некоторых выступала пена. Оглянувшись, Ученый видел, как к упавшему, не торопясь, подходят охранники. Теперь он уже и слышал иногда, как, пнув для начала скрючившегося на земле человека ногой, кто-нибудь из них кричал на него ненатурально грубым голосом, как пастух на скотину: «А ну, кончай придуриваться!»
Перспектива такого конца не столько страшила, сколько возмущала Ученого своей бессмысленностью. Стоило родиться на свет на редкость одаренным человеком — теперь, в своем нынешнем положении, он считал себя вправе давать себе такую оценку, — многого достигнуть и к еще большему стремиться, чтобы таким нелепым, противоестественным образом погибнуть среди угрюмых гор, где-то на самом краю света. Он всеми силами на протяжении последних двух лет старался отдалить этот конец, веря в какое-то чудо, невозможность которого отчетливо понимал. Но вера в чудо органически присуща попавшему в безвыходное положение человеческому существу, так же присуща ему, как рефлекс защиты себя ладонями от падающей скалы. Эта вера появляется не только в большом, но и в малом, подчас почти смешном своей наивностью. Разве он не знал, например, что в санчасти лагеря нет почти никаких лекарств, когда пошел вчера к лагерному лекпому, бывшему ветврачу, просить дать ему чего-нибудь против усиливающихся день ото дня перебоев сердца. Ветеринар не стал даже прикидываться, что проверяет жалобу больного выслушиванием этого сердца, и порошки дал. Такая легкость отпуска лекарств и его чем-то очень знакомый вкус навели недоверчивого пациента на мысль капнуть в свой порошок разбавленной соляной кислоты, выданной тем же лекпомом его соседу по нарам. Эта кислота, да еще отвар кедра-стланика, были в их лагере единственными медикаментами, имеющимися в достатке. Смесь бурно вспенилась. Так и есть — сода! Как у чеховских «сельских эскулапов», ставка на психотерапевтический эффект.