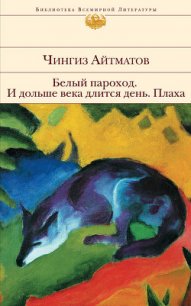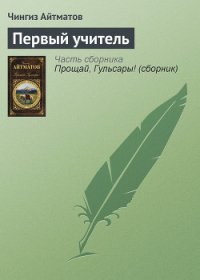Прощай, Гульсары! - Айтматов Чингиз Торекулович (книги онлайн полностью .TXT) 📗
— Ну вот и хорошо, доченька. Молодец.
И сразу легче стало на душе. И вроде не так уж все плохо. Может быть, еще удастся сберечь, что осталось. Смотри, и погода налаживается! А вдруг да встанет весна по-настоящему и минут черные дни чабана? Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать — только так, только в этом спасение…
Приехал учетчик — парнишка верховой. Наконец-то. Спрашивает, что и как. Хотелось Танабаю послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос…
— Где же ты был раньше?
— Как где? По отарам. Не успеваю, я один.
— А как у других?
— Не лучше. Эти три дня покосили много.
— Что говорят чабаны?
— Да что. Ругаются. Иные и разговаривать не хотят. Бектай, так тот погнал меня со двора. Злой ходит, не подступишься.
— Да-а-а. И у меня не было продыху, чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу. Ну, а ты?
— А что я? Учет веду.
— А помощь нам какая-нибудь будет?
— Будет. Чоро, говорят, вышел. Обоз отправил с сеном, с соломой, с конюшни сняли все — пусть, говорит, лучше лошади подыхают. Да, говорят, обоз застрял где-то, дороги-то вон какие.
— Дороги! А что думали раньше? Вечно у нас так. И с обоза-то этого что толку теперь? Ну, я еще доберусь до них! — грозился Танабай. — Не спрашивай. Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь все равно! — И, оборвав разговор, пошел в кошару принимать окот. Сегодня еще маток пятнадцать опросталось.
Ходил Танабай, подбирал приплод, смотрит — учетчик бумагу сует ему:
— Подпишите акт о падеже.
Подписал не глядя. Черкнул так, что карандаш сломался.
— До свидания, Танаке. Может, передать что? Скажите.
— Нечего мне сказывать. — Потом все же задержал парнишку. — Заверни к Бектаю. Передай: завтра к обеду как-нибудь выберусь.
Напрасно беспокоился Танабай. Опередил его Бектай. Сам пришел, да еще как пришел…
Той ночью снова потянул ветерок, пошел снег, не очень густо, но к утру припорошил землю набело. Припорошил и овец в загоне, всю ночь простоявших на ногах. Не ложились они теперь. Собьются в кучу и стоят неподвижные и безразличные ко всему. Слишком долго тянулась бескормица, слишком долго боролась весна с зимой.
В кошаре стоял холод. Снежинки падали через размытую дождями крышу, кружились в тусклом свете фонарей и плавно опускались вниз, на стынущих маток и ягнят. А Танабай все толкался среди овец, исполнял службу свою, как солдат похоронной команды на поле боя после побоища. Он уже свыкся со своими тяжелыми мыслями, возмущение его перешло в молчаливое озлобление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он, чавкая сапогами по жиже, дело свое делал и все вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь…
Бегал когда-то он мальчишкой-подпаском. Пасли вместе с братом Кулубаем овец у одного родственника. Прошел год, и оказалось, что работали они только за одни харчи. Надул хозяин. И разговаривать не захотел. Так и ушли они с прохудившимися чокоями на ногах, со своими жалкими котомками за спинами, с пустыми руками. Уходя, Танабай пригрозил хозяину: «Я тебе это припомню, когда вырасту». А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на пять. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело самому стать хозяином, скотом обзавестись, землю заиметь. «Буду хозяином — никогда не обижу работника», — говаривал он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, а Танабай подался в Александровку, батраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый — пара волов да пара лошадей, свое поле пахотное. Хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу в городишко Аулиэ-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи, Танабай у него больше за волами и лошадьми ходил. Строг был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное платил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно обираемая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски, побывал вместе с извозом в городишке том Аулиэ-Ата, свет повидал немного. А там революция подоспела. И перевернулось все вверх дном. Пришло время Танабаев.
Вернулся Танабай в аил. Другая жизнь началась. Захватила, понесла, кружа голову. Все пришло сразу — земля, воля, права. Избрали его в батрачком. С Чоро сошелся в те годы. Тот был грамотным, молодежь обучал писать буквы, читать по складам. А Танабаю очень нужна была грамота — как-никак батрачкой. Вступил в комсомольскую ячейку. И здесь был заодно с Чоро. И в партию вместе вступали. Все шло своим ходом, беднота наверх выбралась. А когда коллективизация началась, Танабай прикипел к этому делу всей душой. Кому, как не ему, было бороться за новую жизнь крестьянскую, за то, чтобы все стало общее — земля, скот, труд, мечты. Долой кулаков! Крутое, ветреное время зашумело. Днем — в седле, ночью — на заседаниях и собраниях. Составлялись списки кулаков. Баи, муллы, всякие другие богатеи выбрасывались, как сорная трава с поля. Поле нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока Танабай носился вскачь, пока митинговал да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло. Скот имел — овец, корову, пару лошадей, кобылу дойную с жеребенком, плуг, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, но и не бедным он был. Крепко жил, крепко работал.
На заседании в сельсовете, когда очередь дошла до Кулубая, Чоро сказал:
— Давайте, товарищи, подумаем. Раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в колхозе. Ведь он сам из бедняков. Враждебной агитацией не занимался.
По-разному стали говорить. Кто «за», кто «против». Слово осталось за Танабаем. Сидел он нахохлившись, как ворон. Хоть и сводный брат, но брат. Идти надо было против брата. Жили они мирно, хотя и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать: не троньте его, но тогда как с другими быть — у всякого найдется защитник, родственник. Сказать: решайте сами — подумают, что в кусты прячется.
Люди ждали, что он скажет. И оттого, что они ждали, в нем нарастало ожесточение.
— Ты, Чоро, всегда так! — заговорил он, поднявшись. — В газетах пишут о книжных людях, как их там, энтеллегенты. Ты тоже энтеллегент. Ты вечно сомневаешься, боишься, как бы что не так. А чего сомневаться? Раз есть в списке — значит, кулак! И никакой пощады! Ради Советской власти я отца родного не пожалею. А то, что он брат мой, пусть вас не смущает. Невы, так я сам раскулачу его.
Кулубай пришел к нему на другой день. Встретил Танабай брата холодно, руки не подал.
— За что же меня кулачить? Разве не мы с тобой ходили в батраках? Разве не нас с тобой прогоняли баи со двора?
— Это теперь не имеет значения. Ты сам стал баем.
— Какой же я бай? Своим трудом все наживал. И то не жалко. Возьмите все. Только зачем в кулаки меня тащишь? Побойся бога, Танабай.
— Все равно. Ты враждебный класс. И мы должны ликвидировать тебя, чтобы построить колхоз. Ты стоишь на нашем пути, и мы должны убрать тебя с дороги…
Это был их последний разговор. Вот уже двадцать лет, как они словом не обмолвились. Когда Кулубая выслали в Сибирь, сколько разговоров, сколько пересудов было в аиле!
Всякое болтали. Придумали даже такое, что, мол, когда угоняли Кулубая из аила под конвоем двух верховых милиционеров, то уходил он, опустив голову, никуда не глядя и ни с кем не прощаясь. А когда вышли за аил и пошли по дороге через поля, бросился будто он в пшеницу молодую — то была первая колхозная озимь, и стал-де рвать ее с корнями да топтать и мять, как зверь в капкане. Конвоиры, мол, насилу сладили с ним и погнали дальше. И, уходя, сказывали, горько плакал он и проклинал Танабая.
Танабай этому не очень-то поверил. «Болтовня вражеская — хотят допечь меня этим. Но черта с два, так уж я и поддался!» — убеждал он себя.
А перед самой косовицей объезжал он однажды поля, любовался — хлеб уродился в тот год на славу, колос перед колосом гордился, и наткнулся на то самое место в пшенице, где бился в отчаянии Кулубай, где топтал он и рвал с корнем молодое жито. Вокруг пшеница стояла стеной, а тут словно быки дрались, все истоптано, изломано, повысохло все, позарастало лебедой. Как увидел это Танабай, так и осадил коня.