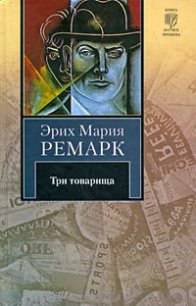Ночь в Лиссабоне - Ремарк Эрих Мария (читать книги полностью .TXT) 📗
— Я знаю, Иосиф. Тогда не будем больше говорить об этом. Никогда.
— Краузе придет опять, — заметил я. — Или кто-нибудь другой.
Она кивнула.
— Они могут дознаться, кто ты, и начнут тебя преследовать. Давай уедем на юг.
— В Италию нам нельзя. Гестапо имеет тесные связи с полицией Муссолини.
— Разве юг это только Италия?
— Нет. Можно поехать на юг Швейцарии, в Тессинский кантон, к Локарно или Лугано.
Вечером мы уехали и пять часов спустя уже сидели на площади в Асконе, на берегу озера Лаго Маджоре, удаленные от Цюриха не на пять, на целых пятьдесят часов. Местность говорила уже о близости Италии. В местечке было полно туристов, и все, кажется, думали только о том, чтобы побыстрее взять от жизни как можно больше: плавали, ныряли, загорали… В эти месяцы всюду в Европе господствовало какое-то странное настроение. Вы помните об этом?
— Да, — сказал я. — Надеялись на чудо. На второй Мюнхен. На третий, четвертый и так далее.
Это были сумерки между надеждой и отчаянием. Время затаило дыхание. Все предметы словно перестали отбрасывать тень в прозрачной, чудовищной тени растущей угрозы. Казалось, рядом с солнцем на сверкающем небе появилась колоссальная комета из средних веков. Все было зыбким. И все казалось возможным.
— Когда вы уехали во Францию?
Шварц кивнул головой.
— Вы правы. Все остальное было только предисловием. Франция — это беспокойная родина бездомных. Все пути снова и снова ведут туда. Через неделю Елена получила письмо от господина Краузе. Ей нужно немедленно явиться в немецкое консульство в Цюрихе или Лугано. Дело важное.
Нам пришлось уехать. Швейцария была слишком мала и слишком благоустроена. Где бы мы ни остановились, нас везде бы нашли. А меня с моим фальшивым паспортом, того и гляди, могли обнаружить и выслать.
Мы поехали в Лугано, но только не в немецкое, а во французское консульство за визой. Я предвидел некоторые затруднения, но все прошло гладко. Мы получили туристскую визу сроком на год. А я-то думал, что нас спустят максимум на три месяца.
— Когда мы выедем? — спросил я Елену.
— Завтра.
В последний вечер мы поужинали в саду ресторана Альберто делла Поста в Ронко, небольшой деревушке, которая, как ласточкино гнездо, прилепилась на склонах гор над озером. Между деревьями мерцали огоньки. На крышах домов бродили кошки. С нижних террас сада доносился запах роз и дикого жасмина. Озеро с островами, где во времена Рима, говорят, стоял храм Венеры, было неподвижно. Темно-синие горы четко выделялись на светлом небе. Мы ели спагетти и пили местное вино. Это был вечер невыразимой нежности и грусти.
— Жаль, что мы должны уехать отсюда, — сказала Елена. — Я бы с удовольствием провела здесь лето.
— Ты еще часто будешь говорить так.
— Что ж, может быть, это самое лучшее. До этого я слишком часто говорила обратное.
— Что именно?
— Что, к сожалению, я где-то почему-то должна была оставаться.
Я взял ее руку. У нее была очень темная кожа. Прошло всего два дня, а она уже сильно загорела. Глаза ее, казалось, стали светлее.
— Я очень тебя люблю, — сказал я. — Я люблю тебя, и этот миг, и лето, которое пройдет, и эти горы, и прощание с ними, и — в первый раз в жизни — себя самого, потому что я теперь стал зеркалом, и отражаю только тебя, и владею тобою дважды. Пусть будет благословен этот вечер и этот час!
— Благословенно пусть будет все! Выпьем за это. И ты — тоже, за то, что ты, наконец, отважился сказать мне то, чего вообще говорить не любишь и что заставляет тебя краснеть.
— Я и теперь краснею, — сказал я. — Но только внутренне и уже не стыдясь. Дай мне время. Я должен привыкнуть. Даже гусенице приходится делать это после пребывания во мраке, когда она выходит на свет и видит, что у нее есть крылья. Как счастливы здесь люди! Как пахнет дикий жасмин! Кельнер говорит, что в лесах его очень много.
Мы допили вино и узкими переулками выбрались на дорогу, которая шла высоко по склону горы. Она вела в Аскону. Над дорогой нависало деревенское кладбище, полное крестов и роз. Юг — это соблазнитель. Он прогоняет мысли и заставляет царить фантазию. К тому же, она почти не нуждается в помощи посреди пальм и олеандров, во всяком случае — меньше, чем рядом с солдатскими сапогами и казармами.
Словно громадное шелестящее знамя, расстилалось над нами небо. Все больше и больше звезд выступало на нем, как будто это был флаг ежеминутно расширяющегося государства вселенной. Аскона сверкала огнями своих кафе далеко внизу, на глади озера; прохладный ветер веял из горных долин.
Мы подошли к домику, который сняли на время. Он стоял у озера. В нем было две спальни, эта уступка морали казалась здесь достаточной.
— Сколько нам еще осталось жить? — спросила вдруг Елена.
— Если мы будем осторожными — год и, может быть, еще полгода.
— А если мы будем неосторожными?
— Только лето.
— Давай будем неосторожными, — сказала она.
— Лето так коротко.
— Вот оно что, — сказала она неожиданно горячо. — Лето коротко. Лето коротко, и жизнь тоже коротка, но что же делает ее короткой? То, что мы знаем, что она коротка. Разве бродячие кошки знают, что жизнь коротка? Разве знает об этом птица? Бабочка? Они считают ее вечной. Никто им этого не сказал. Зачем же нам сказали об этом?
— На это есть много ответов.
— Дай хоть один!
Мы стояли в темной комнате. Двери и окна были раскрыты.
— Один из них — в том, что жизнь стала бы невыносимой, если бы она была вечной.
— Ты думаешь, она стала бы скучной? Как жизнь богов? Это неправда. Давай следующий.
— В жизни больше несчастья, чем счастья. То, что она не длится вечно, — просто милосердие.
Елена помолчала.
— Все это неправда, — сказала она наконец. — И мы говорим это только потому, что знаем, что мы не вечны и ничего не можем удержать. И в этом нет никакого милосердия. Мы его изобретаем сами. Мы изобретаем его, чтобы надеяться.
— Но разве мы все-таки не верим в это?
— Я не верю.
— И в надежду?
— Ни во что. К этому приходит каждый. — Она порывисто разделась и бросила платье на кровать. — Даже арестант, пусть ему однажды и удалось бежать.
— Но ведь это все, на что ему остается надеяться. Только на это.
— Да, это все, что мы можем сделать. Так же, как и мир перед войной. Надеются, что она еще разок будет отложена. Но задержать ее никто не может.
— Войну-то вообще можно, — возразил я. — А вот смерть — нет.
— Не смейся! — вскричала она.
Я подошел к ней. Она через открытую дверь выскользнула наружу.
— Что с тобой, Элен? — спросил я, пораженный. На дворе было светлее, чем в комнате. Я увидел, что лицо ее залито слезами. Она ничего не ответила, и я не стал расспрашивать.
— Я захмелела, — сказала она тихо. — Разве ты не видишь?
— Нет.
— Я выпила слишком много вина.
— Слишком мало. У меня есть еще бутылка. Я поставил бутылку «Фиаско настрано» на каменный стол, что стоял на лужайке позади дома, и пошел в комнату за стаканами.
Вернувшись, я увидел, что Елена спускается по лужайке к озеру. Я помедлил, налил два полных стакана; вино — в бледном сиянии неба и озера — казалось черным.
Я медленно пошел по зеленой траве вниз, к пальмам и олеандрам, что росли на берегу. Неясная тревога как-то вдруг охватила меня. Я облегченно вздохнул, увидев Елену.
Она стояла у самой воды, понурившись, опустив плечи. Вид у нее был странный, будто она ждала какого-то зова или чего-то, что должно было возникнуть перед ней из озера.
Я замер, — не для того, чтобы подсматривать за ней, — я боялся ее испугать. В следующее мгновение она вздохнула, выпрямилась и вошла в воду.
Увидев, что она поплыла, я вернулся в дом и принес махровую простыню и купальный халат. Затем я присел на гранитном валуне и стал ждать. Я смотрел на ее голову с высоким узлом волос — она казалась такой маленькой на водной глади — и думал о том, что, кроме нее, у меня никого и ничего нет. Мне хотелось позвать ее, крикнуть, чтобы она вернулась. Но я смутно чувствовал, что она стремилась победить что-то неизвестное мне и что это совершалось именно в то мгновение. Вода предстала перед ней в роли судьбы, вопроса и ответа, и она сама должна была преодолеть то, что стояло перед ней. Так поступает каждый, и самое большее, что может сделать другой, — это быть рядом на тот случай, когда потребуется немножко тепла.