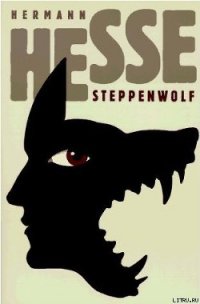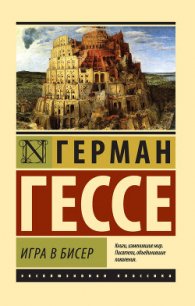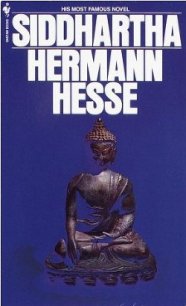Гертруда - Гессе Герман (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
Много дней подряд я не мог ни плакать, ни испытывать боль. Не раздумывая, я решил покончить с жизнью. Вернее, воля к жизни во мне уснула и, казалось, исчезла. Я обдумывал смерть, как операцию, которую непременно надо совершить, не размышляя о том, приятна она или нет. К числу дел, какие я должен был предварительно выполнить и выполнил, относился прежде всего визит к Гертруде, чтобы получить от нее, в известной мере для порядка, уже ненужное моим чувствам подтверждение. Я мог бы получить его у Муота, но, хотя он казался мне менее виноватым, чем Гертруда, пойти к нему было свыше моих сил. Я пошел к Гертруде, не застал ее, на другой день пришел опять и несколько минут беседовал с ней и с ее отцом, пока он не оставил нас одних, полагая, что мы собираемся музицировать.
И вот она стояла передо мной, и я еще раз с любопытством посмотрел на нее, слегка изменившуюся, но все такую же красивую, как раньше.
— Простите, Гертруда, что мне приходится снова мучить вас. Летом я написал вам письмо, могу я сейчас получить на него ответ? Я должен уехать, возможно, надолго, иначе я подождал бы, пока вы сами…
Она побледнела и удивленно воззрилась на меня, и, чтобы помочь ей, я продолжал:
— Не правда ли, вы принуждены сказать «нет»? Я так и думал. Хотел только убедиться.
Она печально кивнула.
— Это Генрих? — спросил я.
Она кивнула опять, но вдруг испугалась и схватила меня за руку,
— Простите меня! И не причиняйте ему зла!
— Этого у меня и в мыслях нет, вы можете быть спокойны, — сказал я и невольно усмехнулся, ибо мне вспомнились Марион и Лотта, которые тоже были так боязливо преданы ему и которых он бил. Возможно, Гертруду он будет бить тоже и сокрушит ее покоряющее величие, да и всю ее доверчивую натуру.
— Гертруда, — начал я опять, — подумайте хорошенько! Не ради меня, я знаю, на каком я свете! Но Муот не даст вам счастья. Прощайте, Гертруда.
До сих пор моя холодность и спокойствие оставались непоколебленными. Только теперь, когда Гертруда так воззвала ко мне, тоном, напомнившим мне Лотту, когда она посмотрела на меня совершенно подавленная и сказала:
«Не уходите так, этого я от вас не заслужила!» — сердце у меня чуть не разорвалось и мне стоило больших усилий сдержаться.
Я подал ей руку и сказал:
— Я не хочу причинять вам боль. Генриху я тоже ничего плохого не сделаю. Но подождите все-таки, не давайте ему власти над собой! Он губит всех, кого любит.
Она покачала головой и выпустила мою руку.
— Прощайте, — тихо промолвила она. — Я не виновата. Не думайте обо мне плохо, и о Генрихе тоже.
С этим было покончено. Я вернулся домой и продолжал готовиться к задуманному, как к деловой операции. Правда, меня тем временем душила боль, и сердце мое обливалось кровью, но я смотрел на себя как бы со стороны и не занимал этим свои мысли. Не имело значения, как я буду себя чувствовать в оставшиеся мне дни и часы — хорошо или плохо. Я сложил по порядку кипу нотных листов, на которых была написана моя опера, и заодно написал письмо Тайзеру, ради того чтобы мое сочинение, если это возможно, было сохранено. В то же время я напряженно раздумывал над тем, каким образом мне умереть. Мне очень хотелось пощадить моих родителей, однако я не находил такого вида смерти, который дал бы мне подобную возможность. В конце концов, это было не так важно: я решил убить себя из револьвера. Все эти вопросы всплывали передо мной как что-то призрачное и нереальное. Прочным было лишь убеждение, что дальше мне жить нельзя, ибо под ледяной оболочкой моего решения я уже смутно предчувствовал весь ужас той жизни, какая мне предстояла. Она гадко смотрела на меня пустыми глазами и была бесконечно безобразнее и страшнее, нежели мрачное и довольно-таки безразличное представление о смерти.
На второй день, после обеда, я закончил свои приготовления. Я хотел в последний раз пройтись по городу и должен был вернуть в библиотеку еще несколько книг. Утешительно было сознавать, что вечером меня уже не будет в живых. Я чувствовал себя, как человек, попавший в аварию, который лежит, наполовину одурманенный наркозом, и испытывает не настоящую боль, но предощущение ужасающих мук. И надеется только впасть в полное бесчувствие, прежде чем действительно вспыхнет эта предощущаемая боль. Такое у меня было состояние. Я страдал не столько от настоящей боли, сколько от мучительного страха, что мне придется снова прийти в сознание и тогда испить всю чашу, от которой меня призвана избавить смерть. Поэтому я шел торопливо и, покончив с делом, сразу зашагал обратно. Только описал небольшой крюк, чтобы не проходить мимо дома Гертруды. Потому что догадывался, не в силах додумать эту мысль до конца, что при виде этого дома невыносимая мука, от которой я спасался бегством, обрушится на меня и повалит.
Так я, запыхавшись, подошел к дому, где жил, отворил дверь и стал не мешкая подниматься по лестнице с чувством глубокого облегчения. Если сейчас моя скорбь еще гонится за мной и протягивает ко мне свои когти, если сейчас, где-то внутри, меня начнет грызть ужасная боль, то ведь между мной и освобождением остались считанные шаги и секунды.
По лестнице навстречу мне спускался какой-то человек в форме. Я посторонился и поспешил протиснуться мимо него, в страхе, что меня могут остановить. Он приложил руку к фуражке и назвал мое имя. Покачнувшись, я взглянул на него. Его обращение ко мне, задержка, мое сбывшееся опасение пронзили меня дрожью, и меня вдруг охватила смертельная усталость, словно я сейчас упаду и уже лишен возможности сделать еще несколько шагов и добраться до моей комнаты.
Между тем я затравленно смотрел на незнакомца и от напавшей на меня слабости присел на ступеньку. Он спросил, не болен ли я, я покачал головой. При этом он все время что-то держал в руке, предлагая мне взять, а я брать не хотел, пока он не попытался всучить мне это почти силой. Я отмахнулся и сказал:
— Не хочу.
Он стал звать хозяйку, ее не было дома. Тогда он подхватил меня под мышки, чтобы втащить наверх, и, как только я увидел, что мне от него не уйти и одного он меня не оставит, я опять почувствовал власть над собой, встал и прошел вперед к себе в комнату, куда он последовал за мной. Поскольку он, как мне показалось, смотрел на меня с подозрением, я показал на свою хромую ногу и сделал вид, будто она болит, — он поверил. Я достал кошелек и дал ему марку, а он окончательно сунул мне в руки бумагу, которую я не хотел брать и которая оказалась телеграммой.
Обессилев, я стоял у стола и пытался собраться с мыслями. Итак, меня все-таки остановили, нарушили мое заклятье. Что это такое лежит? Телеграмма — от кого? Все равно, меня это не касается. Это хамство, приносить мне сейчас телеграммы. Я все подготовил, и вот, в последнюю минуту, кто-то присылает мне телеграмму. Я огляделся, на столе лежало письмо. Письмо я сунул в карман, оно меня не тревожило. Но телеграмма меня мучила, она вторглась в мои мысли и прорвала очерченные мною круги. Я сидел напротив нее, смотрел, как она лежит, и раздумывал, читать мне ее или нет. Конечно, это было посягательство на мою свободу, в этом я не сомневался. Кто-то вздумал попытаться мне помешать. Моего бегства не допускали, хотели, чтобы я вылакал, испил до дна свое страданье, чтобы не избежал ни единого укуса, укола, ни единой судороги.
Почему эта телеграмма так беспокоила меня, я не знаю. Долго сидел я у стола и не решался ее прочесть, чувствуя, что в ней кроется некая сила, способная потянуть меня обратно и заставить выносить невыносимое, все то, от чего я хотел бежать. Когда я наконец ее все-таки вскрыл, листок дрожал у меня в руке и я долго вникал в ее содержание, словно мне приходилось переводить с редкого иностранного языка. Текст гласил: «Отец при смерти. Прошу приехать немедленно. Мама». Постепенно я понял, что это значит. Еще вчера я думал о моих родителях и сожалел, что вынужден причинить им горе, но это соображение было каким-то поверхностным. И вот они заявили протест, оттащили меня назад, предъявили свое право на меня. Мне сразу же вспомнились беседы, какие я вел с отцом на Рождество. Молодые люди, сказал он, в своем эгоизме и чувстве независимости способны дойти до того, чтобы из-за неудовлетворенного желания покончить с жизнью; однако тех, кто знает, что их жизнь связана с жизнью других, — тех собственные вожделения уже не смогут завести так далеко. Но ведь я тоже был связан такими узами! Мой отец лежал при смерти, мать была с ним одна, она звала меня. Угроза его жизни и ее беда в ту минуту еще не тронули моего сердца, я считал, что познал горшие страдания, вместе с тем я понимал, что невозможно сейчас взвалить на них еще мою собственную ношу, не услышать их просьбу, сбежать от них. Вечером я был уже на вокзале, готовый к отъезду; машинально, но добросовестно я сделал все необходимое — купил билет, взял сдачу, вышел на перрон и сел в вагон. Там я уселся в угол, готовый к тому, что мне предстоит ехать долго, всю ночь. Вошел какой-то молодой человек, огляделся, поздоровался и сел напротив меня. Он что-то спросил, но я только взглянул на него, ничего не думая, с единственным желанием, чтобы он оставил меня в одиночестве. Он кашлянул и встал, взял свою сумку из желтой кожи и подыскал себе другое место.