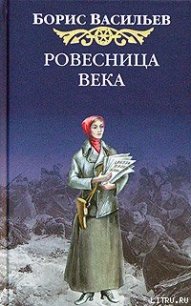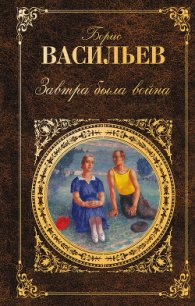Дом, который построил Дед - Васильев Борис Львович (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
— А Петенька яичек не переносит, прыщички у него на щечках, — она озабоченно вздыхала и почему-то грозила пальцем ворчливой Фотишне.
— Стало быть, яловый, — неизменно ответствовала домоправительница, упрямо не замечавшая ни Петеньки, ни тем паче его папаши.
— Спокой рушится, — Василий Парамонович всем купеческим нутром своим предчувствовал смутные времена. — Ох, раскачаем мы государство! Ох, раскачаем да еще, борони Бог, корни надорвем.
— Дни Гракхов! — восторженно вопил Владимир. — Грядут дни великих свершений!
Эта часть семьи ощущала грядущее, как ощущали бы его лебедь, рак да щука, коли б наделены были таковой способностью. Но, во-первых, воз бывшей Российской империи не зависел от их усилий и ощущений, а во-вторых, существовала и иная половина семьи, расколовшейся в канун Великого Раскола России.
2
Был конец мая, вокруг террасы зацветала сирень, и легкий аромат ее плавал в вечернем воздухе. Таня уложила девочку спать и сидела сейчас напротив Федоса Платоновича Минина со странным чувством, будто в мире никого нет, кроме спящей Анечки, учителя Федоса Платоновича и ее, недоучившейся гимназистки Татьяны Олексиной. И сказала об этом:
— Как тихо! Правда?
— Никого нет. — Он все понял. — Когда вы, Татьяна Николаевна, укладывали девочку, я подумал, что в такой вечер люди сочинили легенду о рае. О сказочном месте, где есть только Адам и Ева, где вечно цветет сирень и лев мирно дремлет рядом с ягненком. Извините, это, вероятно, излишне красиво.
— Разве красота может быть излишней?
— Нет, нет, что вы! Не может и не должна. Это я так. Если честно признаться, то от робости. Очень уж то русская черта, правда, Татьяна Николаевна? Ну можете вы себе представить робкого француза или робкого англичанина? Даже немца робкого представить не можете, потому что, вероятно, не водятся они в природе. А вот мы — водимся. Единственная страна Европы, в которой крепостное право всего-то полета лет назад окончилось. Да и то не как следствие крестьянских войн, как в той же Англии, Германии, Франции, а исключительно как дар из рук правителей своих. Обидно, не правда ли? Простите вы меня Бога ради, я все болтаю да болтаю, а вам это неинтересно.
— А мне это интересно. Дар из рук правителей своих… За него ведь расплачиваться придется когда-нибудь. Лет, может, через сто.
Федос Платонович Минин, учитель села Княжого, говорил от великого смущения, которое начал испытывать в присутствии барышни Тани Олексиной. И барышня Таня Олексина слушала его тоже со странным смущением, которое тоже начала ощущать сравнительно недавно и непременно как следствие присутствия Федоса Платоновича. Но это было доброе смущение, и они радостно стремились ему навстречу.
— Татьяша, ты влюблена? — спросила Варя, когда Федос Платонович уже ушел, а Татьяна все еще пребывала в странном состоянии тихой отрешенности.
— Я? — сестра вздохнула. — Это ведь очень серьезно.
— Это прекрасно.
— Да? — Татьяна стала что-то слишком уж часто начинать фразы вопросом, в чем проницательная Варвара тоже кое-что усматривала. — А где батюшка? Громит великую Японию?
С некоторых пор генералу стало наплевать на великую Японию. Появились дела поважнее: текла крыша старенького флигеля, от зимнего снега рухнула садовая беседка, и неплохо было бы продать ближний лес, пока мужики самовольно не спалили его в своих печах. Об этом и иных хозяйственных заботах рачительный управляющий любил докладывать хозяйке по вечерам. Руфина Эрастовна была в домашнем капоте цвета… словом, того, который столь удивительно шел ей; розовая лампа окрашивала весь мир нежностью, а тонкие пальцы с таким изяществом управлялись с картами, раскладывая пасьянсы, что Николай Иванович терял в своих рапортах военную четкость.
— Как всегда, подводят тылы: материалы застряли в Смоленске из-за очередных трудностей с железом. Правда, я имею родственничка по скобяной части, и коли прикажете…
— Вам? Не прикажу, друг мой.
— Вздыхаю с облегчением. Однако беседка рухнула под сокрушительным напором стихий, мужиков в селе — кот наплакал, и у меня есть предчувствие, что скоро Россия станет садом с разрушенными садовыми беседками.
— Россия станет садом не для нас, — Руфина Эрастовна вздохнула без всякого, впрочем, огорчения. — Когда в сердце стучится старость…
— Вы принуждаете меня говорить комплименты, — сердито засопел генерал. — Это не соответствует духу.
— Хорошо, я выражу свою мысль иначе. Когда в наши сердца уже застучала старость, нам следует искать счастья внутри. И у меня впервые сложился гран-пасьянс.
Хозяйка тут же удалилась, чтобы управляющий не успел ляпнуть что-нибудь не вполне подходящее. Но Николай Иванович все еще не верил музыке, звучавшей в душе его, а потому ничего сказать вообще не решился. Зато громко и достаточно фальшиво замурлыкал подходящий под настроение романс и начал жевать собственную бороду.
Они пока еще играли в нежные чувства, пока еще жонглировали словами, но играли с таким удовольствием, с таким замиранием сердец, что хорошо им было только вдвоем. Правда, Руфина Эрастовна строго дозировала встречи наедине, исходя не из девичьей боязни, а из женского опыта в полном соответствии с его богатством и собственным возрастом. И если генерал по природному простодушию не понимал ни ее, ни самого себя, то Руфина Эрастовна знала все и за себя, и за него. Она вела похожую на светский флирт игру, учитывая, что поздние груши медленно зреют, как говаривали любезные ее сердцу французы.
И все же, при всей интимности, это была внешняя сторона их теперешнего бытия. Взаимные тяготения, притяжения и симпатии, при всей их глубине и искренности, не могли устранить беспокойства, рожденного штормом, который крепчал в России с каждым днем. У всякого жильца скромного имения в селе Княжом были свои корни, но если Варвара тревожилась о муже, Татьяна о дочери, а Руфина Эрастовна обо всех разом, то генерал и учитель куда чаще думали о России, чем это можно было бы заключить из их разговоров с дамами.
— Без царя, как без поротого зада, сидеть непривычно, — изрек генерал, когда дам не оказалось поблизости. Он тянулся к тихому, нескладному учителю, но почему-то решил ему не доверять. И все время старательно облекал мысль в форму туманную, отвлеченную, но вроде бы с намеком на некую дерзость. Федос Платонович давно раскусил бесхитростного Николая Ивановича, но по свойственной ему застенчивости не решался первым перевести разговор в русло серьезное и искреннее.
— Был бы зад охоч.
— Ага! — Николай Иванович почему-то радостно потер руки. — Мужик вооружен и сердит. А ну как бросит охоту германца бить да назад оборотится, тогда как? Новой пугачевщины не боитесь?
— Боюсь. И все боятся. Пугачевщина — очень страшно и очень темно. Однако еще иного больше боюсь.
— Больше самой пугачевщины? — недоверчиво прищурился генерал.
— Больше, Николай Иванович, — серьезно подтвердил Минин. — Пугачевщина — это все-таки ломка национальной привычки, болезненная, неуправляемая, жестокая и бессмысленная, но — ломка. А я нашей российской привычки страшусь побольше. Коли уж серьезно, так ее одной и страшусь. Она — страшнее.
— Что же за привычка такая, позвольте полюбопытствовать?
— А привычка такая: пусть барин решает, ему видней. И чем больше барин, тем больше ему и виднее, как решать, вот в чем штука. Изживем — слава нам на веки веков. Не изживем — она нас изживет. Погрязнем в безответственности, как в снегах своих.
— Пужаете, значит, — недовольно сказал генерал. — А я так убежден в обратном: самостийной деятельности нашей боюсь куда больше. Я людьми командовал, уважаемый Федос Платонович.
— Вы солдатами командовали, а не людьми, — категорично, но с мягкой, извиняющейся улыбкой уточнил Минин. — Из солдат еще людей надобно сделать. И сделает это не время, а — революция.
— Она уже была.
— Формально, Николай Иванович. Формально она вроде бы и произошла, и царь отрекся от престола, а что фактически? А фактически у мужика как землицы не было, так и нету, у рабочего хлебушка как не было, так и нету, и только у солдат все как было: война. И вот она-то…