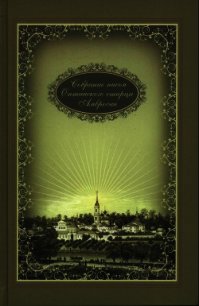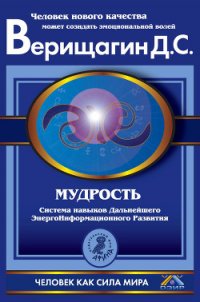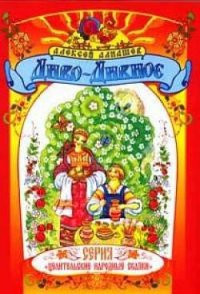Сильна как смерть - де Мопассан Ги (читать книги полные .TXT) 📗
«Да, барышня».
Постоянно подражая, потехи ради, одна другой и копируя движения друг друга, они приобрели такое сходство в манерах и жестах, что сам граф де Гильруа не раз ошибался, когда одна из них проходила в глубине темной гостиной, и спрашивал:
— Это ты, Аннета? Или это твоя мама? Это действительное и выработанное, природное и искусственно созданное сходство породило в уме и в сердце художника странное впечатление, что перед ним двуединое существо, прежнее и новое, хорошо знакомое и почти неведомое, что это два тела, созданных из одной и той же плоти, что это одна и та же женщина, продолжающая самое себя, помолодевшая и снова ставшая такою же, какою была прежде. И он жил подле матери и дочери, разрываясь между ними, жил в смятении и тревоге, пылая вновь пробудившейся любовью к матери и окутывая дочь нежностью, непонятной ему самому.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 1
«20 июля, Париж, 11 часов вечера, Друг мой! В Ронсьере умерла моя мать. Ночью мы отбываем туда. Не приезжайте к нам: мы не извещаем никого. Но пожалейте меня и подумайте обо мне.
«21 июля. Полдень.
Мой бедный друг! Я все-таки приехал бы к Вам, если бы Ваши желания не стали для меня законом. Со вчерашнего дня думаю о Вас с щемящей тоской. Я представляю себе Ваше безмолвное ночное путешествие вместе с дочерью и мужем в полутемном вагоне, который медленно везет Вас к покойнице. Я вижу Вас всех троих под масляной лампой, вижу, как плачете Вы и как рыдает Аннета. Я вижу Ваше прибытие на станцию, ужасное путешествие в карете и въезд в усадьбу, вижу встречающих Вас слуг, вижу, как Вы летите вверх по лестнице к той комнате, к той постели, где лежит она, вижу Ваш первый взгляд, устремленный на нее, вижу, как Вы целуете ее исхудалое, неподвижное лицо. И я думаю о Вашем сердце, о Вашем бедном сердце, об этом бедном сердце, половина которого принадлежит мне и которое разрывается на части и так болит, так страшно бьется у Вас в груди, что и мне в эту минуту становится больно.
С глубоким состраданием целую Ваши полные слез глаза.
«24 июля. Ронсьер.
Ваше письмо утешило бы меня, мой друг, если б что-нибудь могло меня утешить в этом ужасном горе, которое на меня обрушилось. Вчера мы похоронили ее, и с тех пор, как ее бедное, бездыханное тело покинуло этот дом, мне все кажется, что я одна на свете. Человек любит свою мать, почти не сознавая и не чувствуя этого, потому что это для него так же естественно, как дышать, и лишь в минуту последнего расставания он понимает, как глубоко уходят корни этой любви. Никакая другая привязанность несравнима с этой, потому что все остальные привязанности — дело случая, а эта — врожденная, все остальные возникают у нас позднее, случайно, а эта живет у нас в крови со дня нашего появления на свет. И потом, потом вместе с матерью уходит половина нашего детства — ведь наша жизнь, жизнь маленького ребенка, принадлежит ей столько же, сколько и нам. Она одна знает ее так же, как знаем мы сами, она помнит множество далеких, дорогих для нас мелочей, которые были и остаются первыми радостными волнениями нашего сердца. Ей одной я могла сказать:
„Мама! Ты помнишь тот день, когда?.. Мама! Ты помнишь фарфоровую куклу, которую подарила мне бабушка?“ С ней вдвоем мы перебирали длинные, милые сердцу четки никому, кроме нас, не интересных, расплывчатых воспоминаний — теперь обо всем этом в целом мире помню я одна. Значит, это умерла часть меня самой, прежняя, лучшая часть. Я лишилась того бедного сердца, в котором еще жила целиком та маленькая девочка, какою я когда-то была. Сейчас уже никто не знает, никто не помнит маленькую Ани, ее короткие юбочки, ее смех, ее облик.
И настанет день, — быть может, он уже не так далек, — когда и я уйду, оставив мою дорогую Аннету одну на свете, как оставила меня моя мама. Как все это грустно, как тяжело и как жестоко! Только мы никогда об этом не думаем, мы не замечаем, что у нас на глазах смерть каждую минуту кого-то уносит, как унесет вскоре и нас. Если бы мы это замечали, если бы думали об этом, если бы нас не развлекало, не забавляло, не ослепляло то, что ежедневно проходит перед нами, мы не могли бы жить, ибо зрелище этой бесконечной гекатомбы свело бы нас с ума.
Я так разбита, я в таком отчаянии, что у меня уже нет сил чем-нибудь заниматься. Днем и ночью я думаю о бедной маме, лежащей в заколоченном ящике, зарытой в землю, в поле, под дождем; ее старенькое лицо, которое я целовала с такой любовью, теперь уже страшная, гниющая масса. О, какой это ужас!
Когда я потеряла папу, я только что вышла замуж и не так остро все это воспринимала, как сейчас. Да, пожалейте меня, подумайте обо мне, пишите, — Вы так нужны мне теперь!
«Париж, 25 июля.
Мой бедный друг!
Ваше горе причиняет мне страшную боль. Жизнь и мне представляется теперь не в розовом свете. После Вашего отъезда я остался одиноким, покинутым, у меня нет ни привязанностей, ни прибежища. Все меня утомляет, раздражает, все мне надоело. Я постоянно думаю о Вас и о нашей Аннете и чувствую, как далеко от меня вы обе, а мне так необходимо, чтобы вы были около меня!
Я удивительно сильно чувствую, как Вы от меня далеко и как мне Вас недостает. Никогда, даже в дни моей молодости, Вы не были для меня всем на свете, а теперь Вы для меня все. Я давно предчувствовал этот приступ, что-то вроде солнечного удара моим бабьим летом. Я испытываю сейчас нечто до того странное, что мне хочется рассказать Вам об этом. Представьте себе, что после Вашего отъезда я не могу больше гулять. Прежде, даже и в последние месяцы, я очень любил бродить по улицам в полном одиночестве: меня развлекали люди и предметы, я наслаждался радостью глазеть по сторонам, с удовольствием, весело шагая по мостовой. Я шел, сам не зная куда, шел без определенного маршрута — лишь бы идти, дышать, мечтать. Теперь больше не могу. Как только я выхожу на улицу, меня гнетет тоска, страх слепого, потерявшего свою собаку. Я начинаю волноваться точь-в-точь как путник, сбившийся с лесной тропинки, и мне приходится возвращаться домой. Париж кажется мне пустынным, страшным, тревожным. Я спрашиваю себя: „Куда бы пойти?“ И отвечаю себе: „Да никуда, ведь это же прогулка“. И вот я не могу, не могу больше гулять без цели. При одной мысли о том, чтобы идти куда глаза глядят, я изнемогаю от усталости и мне становится невыносимо скучно. И тогда я тащусь со своей меланхолией в клуб.
А знаете ли, отчего это? Только оттого, что здесь больше нет Вас. В этом я уверен. Когда я знаю, что Вы в Париже, мои прогулки уже не бесцельны: ведь на каждом перекрестке я могу встретить Вас. Я могу идти куда угодно, потому что где угодно можете появиться Вы. А если я не найду Вас, я могу увидеть хотя бы Аннету, а Аннета — это часть Вас. Вы обе наполняете для меня улицы надеждой — надеждой еще издали узнать Вас, когда вы идете мне навстречу, или же когда я, догадываясь, что это Вы, устремляюсь вслед за Вами. И тогда город становится для меня очаровательным, женщины, фигурой напоминающие Вас, волнуют мое сердце, заставляют меня наблюдать за жизнью улиц, поддерживают во мне напряжение ожидания, дают пищу моему взору и возбуждают непреодолимое желание увидеть Вас.
Вы сочтете меня большим эгоистом, бедный мой друг, — ведь я расписываю Вам свое одиночество, как старый, воркующий голубь, в то время как вы плачете такими горькими слезами. Простите меня — я так привык к тому, что Вы балуете меня, что, оставшись без Вас, кричу: „Помогите!“ Целую Ваши ноги, чтобы Вы меня пожалели.
«Ронсьер, 30 июля.
Друг мой!
Спасибо за письмо. Мне так необходимо знать, что Вы меня любите! Я прожила ужасные дни. Право, я думала, что горе убьет меня и я уйду вслед за мамой. Скорбь была во мне, она придавила мне грудь, точно глыба, она все росла, пригнетала, душила меня. Ко мне пригласили врача, и он, чтобы прекратить нервные припадки, повторявшиеся раз пять в день, впрыскивал мне морфий, от которого я чуть не сошла с ума, а наступившая у нас палящая жара еще ухудшала мое состояние и доводила меня до крайней степени возбуждения, близкого к бреду. В пятницу, после сильной грозы, я стала немного спокойнее. Надо сказать, что со дня похорон я ни разу не плакала, и вот во время бури, приближение которой вызвало у меня нервное потрясение, я внезапно почувствовала, что из глаз моих медленно покатились слезы — скупые, мелкие, жгучие. О, эти первые слезы, как больно они нам делают! Они разрывали меня, словно когтями, а горло сжималось так, что я не могла перевести дыхание. Потом слезы, более крупные и спокойные, полились быстрее. Они ручьем хлынули из глаз, они были такими обильными, такими обильными, что мой платок был насквозь мокрым и пришлось взять другой. И огромная глыба страданий, казалось, размягчалась, таяла и слезами вытекала из моих глаз.
С той минуты я плачу с утра до вечера, и это меня спасает. Если бы люди не могли плакать, они в конце концов и впрямь сходили бы с ума или умирали.
Я тоже очень одинока. Муж разъезжает по округе, и я настояла на том, чтобы он брал с собой Аннету: надо развлечь ее и хоть как-то успокоить. Они уезжают в экипаже или верхом миль за десять от Ронсьера, и Аннета возвращается ко мне розовая и юная, оживленная деревенским воздухом и поездкой, а глаза ее, несмотря на печаль, озарены блеском жизни. Как прекрасно быть молодым!
Я думаю, что мы задержимся здесь еще недели на две — на три, а потом, хотя это будет лишь конец августа, вернемся в Париж по известной Вам причине Посылаю Вам все, что осталось у меня от моего сердца.