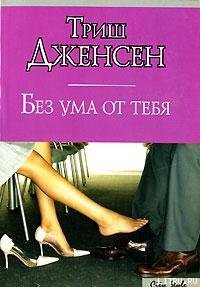Хмурое утро - Толстой Алексей Николаевич (читать хорошую книгу полностью txt) 📗
– Складно! – сейчас же ответил Латугин, тоже без усмешки. – Да не так уж верно. Нет, не наука озорнику скука. Я науку уважаю, если от нее дети бывают… А там скука, где человек не знает, – с какой стороны у слона ноги растут, а с какой голова… Да будет вам меня сердить. Настоящее слово, как баба, обнимет тебя и обожжет, за ним босиком по угольям побежишь… Вот какими словами говори со мной, Шарыгин… А то заладил, как в берестяную дуду: «Мировой пролетарьят да социализм…» Я за него на смерть пошел! Я хочу, чтоб мне про него рассказывали, я бы слушал и верил: когда, где, по какому дереву я в первый раз топором ударю, – этот дом рубить. По каким лугам я гулять пойду в шелковой рубашечке… Эх, стукнуть тебя земным шаром по голове, чтоб ты научился, как разговаривать о мировой революции.
Анисья взглянула на его широкое, сильное лицо, с глазами, расставленными, как у племенного быка, взглянула и с тоской подумала, что уж лучше бы вытекли глаза ее.
Ни Гагин, ни Задуйвитер, ни Байков не одобрили поведения Латугина. Беседовали хорошо, мирно, под тихий шум дождя по соломенной крыше. Правда, Шарыгин по молодости лет, еще не освоясь с наукой, тяжеленько иной раз размышлял, боясь простых слов, как бы не завели они его куда-нибудь в капкан. С иностранными, проверенными, ему было вольнее. Но все же не следовало Латугину, здорово живешь, поднимать на смех честного товарища, да и петушился-то он и форсил по другой, конечно, причине, – это все понимали, – и причину эту тоже не одобряли.
– Комиссар собирает продовольственный отряд, вот ты сходи к комиссару и попросись, – сказал ему Гагин. – Без дела тебе скучно, хорошего от тебя ждать не приходится, – застоялся, милок…
Байков затряс бородой и засмеялся. Задуйвитер тоже понял намек и, разинув рот с крепкими зубами, громыхнул. Анисья залилась таким горячим румянцем, что выступили слезы. Взяла шинель, отвернувшись оделась, туго перепоясалась и вышла из хаты. Получилось совсем уж нехорошо. Шарыгин, усмехаясь, медленно сложил газету.
– Пойдем поговорим, – сказал он Латугину.
Тот прищурился:
– Поговорим.
И они вышли на двор в темноту, под мелкий дождичек, щекочущий лицо. Шарыгин чувствовал, что Латугин с усмешкой только ждет начала разговора, чтобы хлестко и нагло ответить… Шарыгин хотел со всем спокойствием поставить вопрос о нарушении товарищеской дисциплины и о том, как нужно изживать в себе гнилое буржуазное наследство… Вместо этого, глубоко втянув ноздрями ночную сырость, сказал:
– Оставь Анисью… Нехорошо это… Грязно это… Баловство это…
Сказал и замолк. И Латугин, никак не ожидавший такого поворота, стоял перед ним неподвижно. Ничто не годилось, никакой ответ: ни то, что, мол: «тебя, сопляка, девственника, гувернантку, я не просил мне свечку держать», ни то, что, мол: «многие меня об этих делах просили, да мало от меня целыми уходили…» Кругом получалось, что он, Латугин, грязный человек… Поднималась в нем жгучая обида… В прежнее время тут бы и лезть на рожон… Он даже зажмурился, скрипнув зубами… Нельзя!..
– Да-да, – сказал, – вот когда ты меня попрекнул, значит, я кровь свою проливал напрасно, значит – как был я бродяга, бандит, сукин сын, так и остался?.. Ну, спасибо тебе, Костя…
Он пошел к воротам и бешено ударил кулаком в калитку.
Жизнь медленно возвращалась к Ивану Ильичу Телегину. (Он, помимо нервного потрясения, был ранен во многих местах крошечными кусочками стали от разорвавшегося снаряда.)
Вначале было забытье. Потом оно сменилось сном с короткими перерывами, когда ему давали еду. Затем он стал ощущать блаженное состояние покоя. Глаза его были прикрыты повязкой. Он лежал в уединенной комнате с плотно занавешенным окошком. Иногда он слышал мягкие шаги, шепот, – не более громкий, чем шелест листьев, – звон ложечки, шорох платья. Непрерывно около головы его тикали часики, то явственнее, то слабее. Ощущения, идущие к нему извне, ограничивались только этим и еще невидимым присутствием какого-то осторожного существа. Он вздохнет, и сейчас же – легкое движение воздуха, и «оно» наклоняется над ним, и он даже чувствует запах, нежный и свежий…
Время от времени вторгалось грубое существо, пахнущее крепким потом, главным образом – табаком:
«Ну, как пульс?»
Нежное существо едва слышно шелестело в ответ. А грубое гудело бодро:
«Прекрасно! Мужик крепкий… Главным образом следите: абсолютный покой, никаких внешних раздражителей…»
Иван Ильич мысленно медленно произносил: «Сам ты внешний раздражитель… Уйди, не гуди… А ты, заботливая, наклонись, поправь чего-нибудь, а еще лучше – погладь руку… Вот видишь, – подумал – и поняла. Что это за сиделка, откуда такую милую нашли?»
Говорить ему было запрещено. Но думать запретить нельзя. Много лет не было с ним такого случая, чтобы остаться – без угрызений и забот – наедине с самим собой. Это была большая награда за все тяжелые годы честной службы. Нечестного он не сделал ничего, и совесть его спокойно дремала, как дымчатый кот в ненастный день. Мысли его бродили по какому-то полуреальному миру. Чаще всего вспоминалось летнее северное солнце, какое бывало в Петербурге, когда в холодноватый день оно льет свет на синеватый асфальт тротуара, по которому метет ветерок… Сколько думано, сколько было прожито в Петербурге… И вот перед его закрытыми веками выплывает окошко деревянного дома, солнце неярко светит на пузырчатые стекла, за ними чудится ему… Но воспоминание гасло и уплывало, оставалась только любовная грусть от его прикосновения.
Неотвязно в памяти повторялись давно забытые слова песенки, – слышал он ее, точно не вспомнить, должно быть, в Новой Деревне, что за рекой Крестовкой, на даче. В голубоватом полусвете ночи ленивая худая цыганка пела вполголоса, перебирая струны: «Пойдете вы направо и налево и потом – темным коридором обогнете вы весь дом, направо будет дверца, а за дверцею чердак, все, что вы искали, – не найдете вы никак…»
Пела им – мужчинам, сидевшим молча на стульях перед ней, – о вечном томлении, без него и жизнь не жизнь… Ищи, ищи, заглядывая на чердаки, – нет ли и там? Эх вы, глупые, с похмелья! Кого вы ищете? Идете по длинной улице на закат северного солнца, под ногами ветерок гонит пыль, ищете – где же это окошко, с пузырчатыми стеклами? Не за ним ли сидит на подоконнике самая милая на свете, в ситцевом платьице, подняв колени, – читает книжку, а в книге написано про тебя, который идет, ищет. Все это вздор, – ищете вы самих себя…
В тишине и темноте, под тиканье часиков, Иван Ильич полудремал, полугрезил: вместе с возвращением к жизни в нем пробуждалась любовь к себе, глубоко запрятанная, принципиально им осуждаемая. В этом полуфантастическом мире он будто собирал свои воспоминания, самые добрые, самые невинные, самые любовные, – то, что человек за свою жизнь теряет по пути, и часто безвозвратно. Любовь к себе приходила к нему, как здоровье. Он уже и ел с аппетитом, и потихоньку от сестры крепко потягивался.
Однажды, хорошо выспавшись, поев гречневой каши, удобно устроясь на подушке, он неожиданно громко сказал:
– Сестрица, можно поболтать с вами немножко о пустяках…
Она поспешно нагнулась к нему.
– Тсс, – прошептала испуганно и ладонью сжала его губы – Тсс! – А когда отняла руку, он опять – уже с озорством:
– Тогда вы что-нибудь расскажите… Вот у вас рука приятная, маленькая. Сколько вам лет? Как вас зовут?
Она несколько раз коротко вздохнула, не то всхлипывая, не то задыхаясь… Чудная какая-то была. А он ей хотел сказать вот что: «Я проснулся, и вдруг мне пришло в голову… Если человек сам себя не любит, тогда он никого не может любить, – на что он тогда пригоден? Например, бесстыдники, подлецы – они себя не любят… Спят они плохо, все у них чешется, вся кожа свербит, то злоба к горлу подходит, то страх обожжет… Человек должен себя любить и любить в себе такое, что может любить в нем другой человек… И в особенности – женщина, его женщина…»
Но Иван Ильич ничего этого не сказал; сестра ушла из комнаты и скоро вернулась с доктором, врагом внешних раздражителей, который нахальнейше начал гудеть: