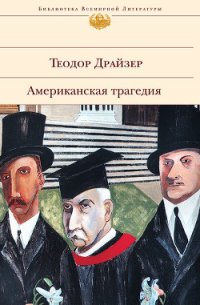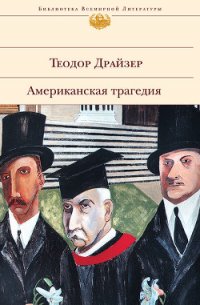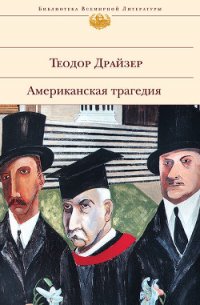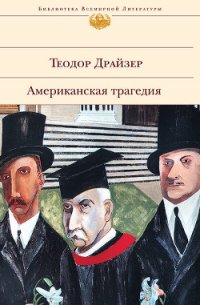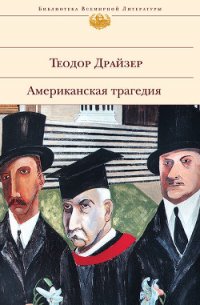Американская трагедия - Драйзер Теодор (электронные книги бесплатно TXT) 📗
А тем временем за два дня до его смерти миссис Грифитс в порыве безмерного ужаса и отчаяния телеграфировала достопочтенному Дэвиду Уотхэму:
«Можете ли вы сказать перед богом, что у вас нет сомнений в виновности Клайда? Прошу, телеграфируйте. Иначе кровь его падет на вашу голову. Его мать».
И секретарь губернатора Роберт Феслер ответил телеграммой:
«Губернатор Уотхэм не считает для себя возможным отменить решение апелляционного суда».
И, наконец, последний день… последний час… Клайда переводят в камеру старого Дома смерти и после бритья и ванны выдают ему черные брюки, белую рубашку без воротничка (потом ее должны были открыть на шее), новые войлочные туфли и серые носки. В этом наряде ему разрешено еще раз увидеться с матерью и Мак-Милланом, — с шести часов вечера накануне казни и до четырех часов последнего утра им позволено оставаться подле Клайда, беседуя с ним о господней любви и милосердии. А в четыре часа появился начальник тюрьмы и сказал, что миссис Грифитс пора удалиться, оставив Клайда на попечение Мак-Миллана. (Печальная необходимость, требуемая законом, сказал он.) И затем — последнее прощание Клайда с матерью; в эти минуты, то и дело замолкая, чувствуя, как больно сжимается сердце, он все же с усилием выговорил:
— Мама, ты должна верить, что я умираю покорно и спокойно. Смерть мне не страшна. Бог услышал мои молитвы. Он даровал силы и мир моей душе.
Но про себя он прибавил: «Так ли?»
И миссис Грифитс воскликнула:
— Сын мой! Сын мой! Я знаю, знаю, я верю в это! Я знаю, что искупитель мой жив и не оставит тебя. Пусть мы умираем, но будем жить вечно! — Она стояла, подняв глаза к небу, пронзенная страданием. И вдруг обернулась, схватила Клайда в объятия и долго и крепко прижимала его к груди, шепча: — Сынок… мальчик мой…
Голос ее оборвался, она задыхалась… казалось, вся ее сила перешла к нему, и наконец она почувствовала, что должна оставить его, чтобы не упасть… Пошатнувшись, она быстро обернулась к начальнику тюрьмы, который ждал, чтобы отвести ее к обернским друзьям Мак-Миллана.
И потом, в темноте этого зимнего утра, — последние минуты: пришли тюремщики, сделали надрез на правой штанине, чтобы можно было приложить к ноге металлическую пластинку, потом пошли задергивать занавески перед камерами.
— Кажется, пора. Смелее, сын мой! — это сказал, увидев приближающихся надзирателей, преподобный Мак-Миллан; вместе с ним теперь при Клайде находился и преподобный Гилфорд.
И вот Клайд поднялся с койки, на которой он сидел рядом с Мак-Милланом, слушая чтение 14-й, 15-й и 16-й глав Евангелия от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в бога и в меня веруйте». И потом — последний путь; преподобный Мак-Миллан по правую руку, преподобный Гилфорд по левую, а надзиратели — впереди и позади Клайда. Но взамен обычных молитв преподобный Мак-Миллан провозгласил:
— Смиритесь под всемогущей десницей господа, дабы он мог вас вознести, когда настанет час. Возложите на него все заботы свои, ибо он печется о вас. Да будет мир в душе вашей. Мудры и праведны пути того, кто через Иисуса Христа, сына своего, после кратких страданий наших призвал нас к вечной славе своей. «Аз есмь путь, и истина, и жизнь. Лишь через меня придете к отцу небесному».
Но, когда Клайд, направляясь к двери, за которой ждал его электрический стул, пересекал коридор Дома смерти, послышались голоса:
— Прощай, Клайд!
И у Клайда хватило земных мыслей и сил, чтобы отозваться:
— Прощайте все!
Но голос его прозвучал так странно и слабо, так издалека, что Клайду и самому показалось, будто это крикнул не он, а кто-то другой, идущий рядом с ним. И ноги его, казалось, переступали как-то автоматически. И он слышал знакомое шарканье мягких туфель, пока его вели все дальше и дальше к той двери. Вот она перед ним… вот она распахнулась. И вот наконец электрический стул, который он так часто видел во сне… которого так боялся… к которому его теперь заставляют идти. Его толкают к этому стулу… на него… вперед… вперед… через эту дверь, которая распахивается, чтобы впустить его, и так быстро захлопывается… а за нею остается вся земная жизнь, какую он успел изведать.
Четверть часа спустя преподобный Мак-Миллан с совершенно серым, измученным лицом, несколько нетвердой походкой человека, разбитого нравственно и физически, вышел из холодных дверей тюрьмы. А как немощен, как жалок и пасмурно-сер был этот зимний день… совсем как он сам… Мертв! Всего лишь несколько минут назад Клайд так напряженно и все же доверчиво шел с ним рядом, а теперь он мертв. Закон! Тюрьмы — вот такие, как эта. Сильные и злые люди уже глумятся там, где Клайд молился. А его исповедь? Верно ли он решил, ведомый мудростью господа, насколько господь приобщил его к своей мудрости. Верно ли? Глаза Клайда! Преподобный Мак-Миллан и сам едва не упал без чувств подле Клайда, когда тому надели на голову шлем… и дан был ток… он весь дрожал, его мутило… кое-как, с чьей-то помощью он выбрался из этой комнаты — он, на кого так надеялся Клайд. А он просил бога даровать ему силы, просил…
Он побрел по безмолвной улице, но ему пришлось остановиться, прислонясь к дереву, безлистному в эту зимнюю пору, такому голому и унылому… Глаза Клайда! Его взгляд в ту минуту, когда он бессильно опустился на этот страшный стул… тревожный взгляд, с мольбой и изумлением, как подумалось Мак-Миллану, устремленный на него и на всех, кто был вокруг.
Правильно ли он поступил? Было ли решение, принятое им в разговоре с губернатором Уотхэмом, действительно здравым, справедливым и милосердным? Не следовало ли тогда ответить губернатору, что может быть… может быть… Клайд был игрушкой тех, других влияний?.. Неужели душе его больше не знать покоя?
«Я знаю, искупитель мой жив и сохранит его на оный день».
И еще долгие часы Мак-Миллан бродил по городу, прежде чем собрался с силами пойти к матери Клайда. А она в доме преподобного Фрэнсиса Голта и его супруги — деятелей Армии спасения в Оберне — с половины пятого утра на коленях молилась о душе своего сына; мысленно она все еще пыталась узреть его обретшим покой в объятиях создателя.
«Я знаю, в кого уверовала», — молилась она.
ВОСПОМИНАНИЕ
Летний вечер, сумерки.
И торговый центр Сан-Франциско — высокие здания, высокие серые стены в вечерней мгле.
И на широкой улице к югу от Маркет-стрит, теперь почти затихшей после шумного дня, — группа в пять человек: мужчина лет шестидесяти, коротенький, толстый, но с застывшим лицом и поблекшими, тусклыми глазами мертвеца — весьма невзрачная и усталая личность; густая грива седых волос выбивается из-под старой круглой фетровой шляпы; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, какими обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, всего лет на пять моложе, повыше, не такая полная, но крепко сбитая, с белыми как снег волосами, вся в черном с головы до пят — черное платье, шляпа, башмаки. Ее широкое лицо выразительнее, чем лицо мужа, но глубоко изборождено следами невзгод и страданий. Рядом, держа в руках Библию и несколько книжечек псалмов, идет мальчик лет семи-восьми, не больше, бойкий, глазастый, не слишком хорошо одетый, но живой и грациозный; как видно, он очень привязан к пожилой женщине и старается держаться поближе к ней. Вслед за ними, но чуть поодаль идут увядшая, бесцветная женщина лет двадцати семи и другая — лет пятидесяти, очень похожие друг на друга — очевидно, мать и дочь.
Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома тихоокеанского лета. Дойдя до угла Маркет-стрит, большой и оживленной улицы, по которой в противоположных направлениях снует множество автомобилей и трамваев, эти люди задержались, ожидая знака полисмена на перекрестке.
— Стань поближе ко мне, Рассел, — сказала старшая женщина. — Дай-ка руку.
— Мне кажется, движение здесь возрастает с каждым днем, — тихо и без выражения произнес ее муж.