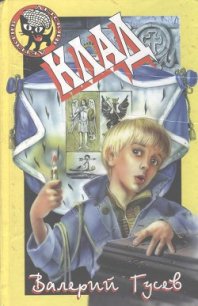Норма - Сорокин Владимир Георгиевич (читать хорошую книгу полностью .TXT) 📗
— Что есть истина?
И черные очи под спокойными дугами бровей ясно ответили:
— Аз есмь.
Тогда это поразило Антона до глубины души и он впервые ощутил в себе чудотворные ростки веры…
Антон встал, подошел к иконе, поднял руку и осторожно коснулся облупившегося темно-вишневого хитона Христа. Пальцы почувствовали прохладную шершавость.
Приблизившись, он поцеловал икону…
Спас. Отец протирал его, моча ватку в широкогорлом пузырьке. От ватки пахло чем-то остро-сладким.
А пузырек всегда стоял вон там, на книжной полке, поблескивая зелеными боками на фоне темно-коричневых корешков богословских трудов Московской патриархии.
Антон подошел к полкам, положил руку на вспучившееся от влаги дерево. Здесь справа когда-то блестели золотыми корешками Библия, Апостол, Добротолюбие, сборники катехизисов, кондаков и акафистов. Ниже стояли тома «Истории» Карамзина, сочинения Соловьева, труды Леонтьева, Хомякова, Аксакова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Достоевского, Белинского, Некрасова, Писемского, Островского. И все они — тяжелые, в красивых тисненых переплетах — были «с ёрами и ятями», — как, посмеиваясь в подкрученные усы, говаривал покойный отец.
Да. Отец любил их — эти потертые увесистые книги с пожелтевшими, но твердыми страницами.
Летом он читал их в саду, уютно усевшись в просторном китайском шезлонге с палеными драконами на прочной матерчатой спинке. Ветер пошевеливал листвой разросшихся яблонь, голубоватая ажурная тень ползла по отцовскому нанковому плечу, колеблясь на широких полях соломенной шляпы.
Шестнадцатилетний Антоша, примостившись рядом на жирной блестящей траве, мастерил похожий на журавля планер, обтягивая крылья громко хрустящей калькой.
Вдруг отец поднимал голову, коротко вздыхал и проговаривал:
— Антоша, минуту внимания. Вот, послушай-ка…
Антон поворачивался к нему, отец прижимал страницу костяным ножичком и читал ровным мягким голосом:
«Событие, которое произошло осенью 1380 года на поле Куликовом, стало живым символом русского народа и его истории. „С войны не бегают, а сражаются до последнего издыхания, чтобы получить доблестный конец“ — учит признанный всем православным народом оптинский старец иеросхимонах Амвросий, выражая этими словами общецерковное сознание во взгляде на войну физическую, и вместе — на брань духовную, которые взаимосвязаны по существу. Быть Церкви в стороне от этих событий — значит уйти с поля брани. Вот почему Христос Спаситель на замечание Своих учеников: „Здесь два меча“, — сказал: „Довольно“. И русские верующие люди достаточно глубоко восприняли этот Евангельский урок истории, передавая последующим поколениям опыт брани наших предков, и прежде всего — брани духовной. Никогда в истории человечества кровь православных христиан не проливалась напрасно, особенно во время ключевых исторических событий, каким была Куликовская битва за свободу народов земли. На поле Куликовом встретились не просто русская сила с силами орды. Произошло столкновение благодатной духовной силы, осененной благословением Божьим, с поганью и нечистью, воплотившей в своем пафосе разрушения и порабощения зловещий лик Сатаны. Он-то и был повержен тогда, благодаря духовному мужеству русских людей, возложивших себя на алтарь Добра и Света во имя грядущих поколений правосланных».
Он замолкал, сдержанно улыбаясь, выпрямлялся, насколько позволял деликатно поскрипывающий шезлонг и привычно быстрым движением снимая с переносицы свое золотое пенсне «мотылёк»:
— Замечательно. Правда?
— Правда, — кивал головой притихший Антон.
— Действительно, это не просто битва. Это… это… — отец замирал, держа перед собой пенсне и тихо добавлял: — это крестная жертва русского народа…
Что-то зашуршало в углу.
Серая, похожая на тряпочку мышь спокойно пробежала по плинтусу и юркнула и дыру.
Антон подошел к отцовскому столу, подвинул стул и сел, положив руки на огрубевшую, вспучившуюся местами поверхность.
Когда-то здесь стоял массивный чернильный прибор, хрустальные кубики-чернильницы которого так красиво разлагали солнечный луч на яркие радуги, а чуть левее лежал календарь, стояла фарфоровая вазочка для карандашей и высокий трехсвечный шандал. Отец зажигал его росными августовскими вечерами, когда отключали свет. Прикуривая от свечи, отец чуть склонял на бок свою красивую, рано поседевшую голову, брал папиросу большим и указательным пальцами, выпускал дым, оттопыривая нижнюю губу…
Антон посмотрел вверх. Яичную желтизну елового потолка сменил серый налет. По углам виднелись заросли паутины. Он протянул руку, подставил ладонь под капель. Холодные увесистые капли стали разбиваться о пальцы, обдавая лицо водяной палью.
«А ведь здесь жили», — подумал Антон. — «Жили люди. Сидели на этом стуле. Разговаривали. Смеялись. Пили чай из широких чашек с синими розами на фарфоровых боках. И одним из этих людей был я…»
— Я, — произнес он, поднося к глазам мокрую руку.
«Те же пальцы, те же линии жизни, сердца, ума. Те же волосы, рот, глаза…»
Он встал, с трудом разгибая уставшие ноги, прошел в горницу, взял саквояж, толкнул дверь.
Туман заметно поредел, послеполуденное солнце выглядывало из-за белесых облаков. Слабый ветерок обвевал лицо осенней сырой прохладой.
Антон обогнул дом и вышел в сад.
Как он разросся!
Там, где когда-то торчали редкие веточки посаженных отцом яблонь, теперь стояли толстые деревья с раскидистыми кронами и бугристыми стволами. Вишня, кусты роз, крыжовник, смородина, жасмин, сирень — все сцепилось, переплелось ветвями, проросло крапивой, чертополохом, лопухами и лебедой.
Он смотрел, не узнавая ничего, не веря своим глазам.
В саду, поражавшим местных мужиков своей ухоженностью, а приезжих интеллектуалов — изысканностью, теперь царил хаос. Это был кусок леса, самого настоящего молодого леса.
Антон покачал головой, разглядывая все вокруг. Так хозяин, встретив через много лет в лесной чащобе свое некогда домашнее животное с удивлением узнает в его диких повадках следы тех, когда-то милых сердцу черт, и странное, противоречивое чувство овладевает им.
— Невероятно… — пробормотал он, покачивая головой.
На месте грядок со спаржей и лионской клубникой кустился непролазный бурьян, тропинка, ведущая на пасеку, терялась в нем. Он шагнул вперед, с трудом продираясь сквозь влажные ветки, двинулся туда, где выглядывали из высокой пожелтевшей травы крыши пчелиных домиков, издали казавшиеся такими же прочными и ладными, как тогда. Но чем ближе приближался он к ним, тем быстрее и бесповоротнее рассыпалась иллюзия: улья стояли насквозь гнилые.
Подойдя к ним, Антон поразился стойкости их трухлявых стенок, коснулся рукой и домик тут же рухнул, мягко развалился, крыша опрокинулась, обнажилось изъеденное насекомыми нутро.
Склонившись над этой печальной грудой, Антон стал трогать прелые доски и вдруг от них поплыл запах. Тот самый — невероятный запах пасеки
Антон замер. В нем, этом запахе — теплом, живом и родном — вспыхнули, ожили и встали во всей полноте давно забытые картины юности: потянулся горьковатый слоистый дымок из прокопченного носика дымаря, запахнулась пола белого испачканного прополисом халата, отцовские руки осторожно сняли крышку с улья, откинули покоробившуюся холстину, дымарь хрипло и часто задышал, рамка с треском полезла из обоймы, ползающие по ней пчелы нехотя снялись.
— Держи-ка, — отец передал Антону тяжелую раму, солнце сверкнуло в полуполных ячейках сотнями янтарных искорок.
А потом — плавные провороты медогонки и тягучий блеск меда, сползающего по жестяным стенкам, и тонущие в нем пчелы, и опьяняющий запах, и вынутое из пальца жало, еще содрогающееся в своем слепом желании…
— Смотри Антон, — говорил отец, поднося к его лицу пустую рамку, — смотри, какое совершенство, какой апофеоз разума, гармонии и красоты. И это чудо архитектуры построено какими-то бессловесными насекомыми, какими-то крохотными пчелками. А их ульи! Ведь по сути все утопические идеи Кампанеллы, Фурье и Мора воплощены вот в этих неказистых на вид домиках. В них идеальный порядок, ни на минуту не останавливается многоплановая работа, каждая пчела делает свое дело, да и как делает!