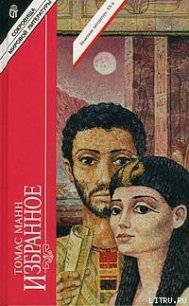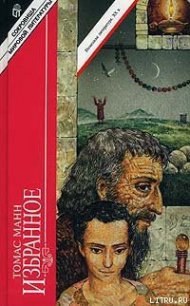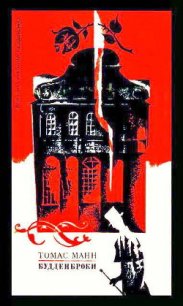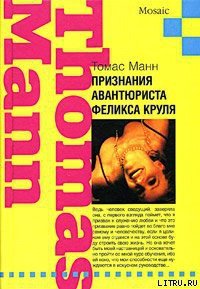Иосиф-кормилец - Манн Томас (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
Нет, следовательно, ничего удивительного или неправдоподобного в возникшем было намерении оставить достигшее совершеннолетия юное солнце в прежнем, утреннем состоянии осененности материнским ночным крылом. Намеренье это, однако, так и не созрело, от него, несмотря на возражения Амуна, в конце концов отказались. Против него были такие же веские доводы, как и в его пользу. Не следовало признаваться миру, что фараон болен или настолько немощен, что не может править; это было не в интересах наследственно царствующего солнечного рода и могло вызвать опасные недоразумения внутри державы и в обложенных данью областях. Но кроме того, хворь фараона носила характер, не позволявший видеть в ней уважительную причину для дальнейшей опеки над ним, — характер священный, скорее способствовавший, чем вредивший его популярности и, значит, куда выгодней было не объявлять этот недуг причиной неправомочности, а использовать в борьбе против Амуна, чье тайное стремление соединить двойной венец со своим головным убором из перьев и основать собственную династию только и ждало удобного случая.
Потому-то матерь-ночь и предоставила сыну всю полноту могущества полуденной его мужественности. При очень пристальном взгляде, однако, оказывается, что сам он, Аменхотеп, принял это событие с двойственным чувством — что он испытывал тогда не только гордость и радость, но также и некоторую подавленность и, в общем, пожалуй, предпочел бы по-прежнему пребывать под крылом. По одной частной причине он ждал своего совершеннолетия даже с ужасом: дело в том, что по обычаю в начале своего правления фараон, как верховный военачальник, лично предпринимал грабительский поход в азиатские или негритянские земли, по успешном завершении которого его торжественно встречали у границы, после чего, вернувшись в столицу, он не только приносил в жертву сильному Амуну-Ра, бросившему к его ногам князей Захи и Куща, добрую часть своей военной добычи, но и собственноручно закалывал ему полдюжины пленников — по возможности знатных, а на худой конец и нарочито повышенных в званье.
На выполнение всей этой процедуры «владыка благоухания» чувствовал себя совершенно неспособным и сразу же менялся в лице, бледнел и зеленел, как только о ней заходила речь и стоило ему лишь подумать о ней. Он испытывал отвращение к войне, которая была, может быть, делом Амуна, но никак не «моего отца Атона», недвусмысленно представшего своему сыну в одном из тех священно-тревожных приступов забытья «Владыкою мирной жизни». Мени не мог ни мчаться на колеснице, ни грабить, ни одаривать Амуна добычей, ни закалывать ему пленников княжеского или якобы княжеского рода. Он не мог и не хотел делать этого даже символически, даже только для вида, и запрещал изображать себя на стенах храмов и проезжих воротах стреляющим с колесницы в испуганных врагов или схватившим их одной рукой за вихры, а другой заносящим над ними увесистую дубинку. Все это было ему, то есть его богу, а потому и ему, нестерпимо и чуждо. Двор и государство не сомневались, что кровопролитный дебют ни в коем случае не состоится и что в конце концов от него придется отделаться под благовидным предлогом. Можно было объявить, что окрестные страны земного круга и так уже настолько покорно лежат у ног фараона и выплачивают ему дань настолько исправно и в таком изобилии, что ни в каком военном походе нет надобности и свой приход к власти фараон решил прославить именно отказом от подобных действий. Так оно и случилось.
Но и после этой поблажки вступление в полуденную полосу по-прежнему вызывало у Мени смешанные чувства. Он понимал, что как самодержец должен соприкасаться со всей полнотой единого мира, со всеми его языками и говорами, тогда как до сих пор ему, Мени, дозволено было видеть мир только под одним определенным, и притом облюбованным углом зрения — религиозным. Не занятый земными делами, он мог среди цветов и диковинных деревьев своего сада мечтать о своем преисполненном любви боге, создавая его мыслью и размышляя о том, как лучше определить именем и воплотить в изображении его сущность. Это было весьма ответственное и трудоемкое занятие, но он любил его и готов был терпеть головную боль, которую оно у него вызывало. А теперь он должен был заниматься и занимать свои мысли тем, что вызывало у него головную боль отнюдь не желанную. Ежеутренне, когда его голова и тело пребывали еще в полусне, к нему являлся визирь Юга, рослый человек с бородкой и двумя золотыми нашейными кольцами, Рамос по имени, и после вступительного, раз навсегда установленного, похожего на литанию витиеватого приветствия в течение многих часов, во всеоружии великолепно изготовленных свитков, докучал ему текущими административными делами — судебными приговорами, налоговыми ведомостями, сооружением каналов, закладкой новых зданий, вопросами снабжения строевым лесом, вопросами устройства каменоломен и рудников в пустыне и тому подобным, сообщая фараону, какова его, фараона, прекрасная воля во всех этих делах, и затем восхищаясь его прекрасной волей с воздетыми вверх руками. То была прекрасная воля фараона — проехать по такой-то и такой-то дороге в пустыне, чтобы указать удобные для колодцев и стоянок места, заранее уже определенные другими, более сведущими в этих вопросах людьми. То была его восхитительно прекрасная воля — призвать к ответу эль-кабского городского голову и спросить у него, почему он так неисправно и даже не сполна поставляет причитающиеся с него золото, серебро, крупный рогатый скот и холсты фиванской казне. То была также высочайшая его воля — не далее как послезавтра отправиться в горемычную Нубию, чтобы там торжественно заложить или открыть храм, посвященный чаще всего Амуну-Ра и, значит, на его взгляд, совершенно не стоивший той усталости и головной боли, которую приносила ему эта утомительная поездка.
Вообще обязательная храмовая служба и громоздкий церемониал державного бога отнимали большую часть времени и сил фараона. Внешне на то была его прекрасная воля, но внутренне он никак не мог желать того, что мешало ему думать об Атоне и вдобавок навязывало ему, Мени, общество сурового наместника Амуна — Бекнехонса, которого он терпеть не мог. Тщетно пытался он назвать свою столицу «Город блеска Атона»; к народу это название не пробивалось, жречество не пропускало его, и Уазет была и оставалась Новет-Амуном, городом великого Овна, который рукою царственных своих сыновей покорил чужие страны и сделал богатой землю Египетскую. Уже тогда фараон втайне подумывал о том, чтобы перенести свою резиденцию из Фив в другое место, где ему бы не кололо глаза изображенье Амуна, светившееся в Фивах на всех стенах, воротах, колоннах и обелисках. Он, однако, еще не думал об основании нового, собственного, целиком посвященного Атону города, а только имел в виду переселить двор в Он-на-вершине-треугольника, где чувствовал себя гораздо лучше. Там, неподалеку от храма Солнца, у него был приятный дворец, не такой блестящий, как Мерима'т на западе Фив, но предоставлявший все удобства, в каких нуждалась его изнеженность; и придворным летописцам часто случалось отмечать отбытие Доброго Бога на судне или в коляске в Он. Там, правда, сидел визирь Севера, в чьих руках находилась исполнительная и судебная власть над всеми округами между Сиутом и устьями и который тоже спешил вызвать у него головную боль. Но уж зато от кажденья Амуну, да еще под надзором Бекнехонса, Мени был здесь избавлен и мог в свое удовольствие беседовать с учеными плешивцами из дома Атума-Ра-Горахте о природе этого великолепного бога, своего отца, и о его внутренней жизни, каковая, несмотря на огромный его возраст, была еще настолько кипуча и деятельна, что оказалась способна прекраснейше измениться, очиститься и преобразиться, и что, если можно так выразиться, из старого бога благодаря работе человеческой мысли медленно, но все совершеннее, выступал новый, несказанно прекрасный бог, чудесный, светящий всему миру Атон.
Хорошо бы целиком отдаться ему и быть только его сыном, родовспомогателем, провозвестником и последователем, а не быть, кроме того, еще и царем Египта и преемником тех, кто так далеко продвинул пограничные камни Кеме и сделал ее мировой державой. Перед ними и перед делами их ты был в долгу; ты должен был держать равненье на них и на их дела, и можно было подозревать, что Амунова наместника Бекнехонса, который это неустанно подчеркивал, ты потому и терпеть не мог, что тут он был прав. Иначе говоря, юный фараон и сам это подозревал; это было подозрение тайной его совести. Он подозревал, что основание мировой державы и помощь при рождении мирового бога не только разные вещи, но что второе, возможно даже, находится в каком-то противоречии с царской обязанностью хранить и охранять полученное наследие. Также и головная боль, закрывавшая ему глаза, когда визири Юга и Севера донимали его государственными делами, была связана с подозрением, или, собственно, даже не с настоящим подозрением, а с тенью подозрения, что она, то есть головная боль, коренится не столько в усталости и скуке, сколько в смутном, но тревожном понимании противоречия между уходом в любимую атоновскую теологию и обязанностями царя земли Египетской. Другими словами, то была головная боль от неспокойной совести, боль к тому же именно так и понимаемая, что отнюдь не успокаивало, а, наоборот, обостряло эту боль и усугубляло тоску по утраченному состоянию утренней осененности материнским крылом ночи.