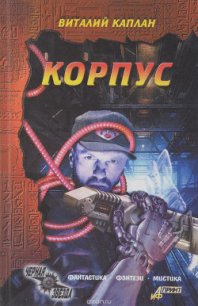Раковый корпус - Солженицын Александр Исаевич (лучшие бесплатные книги .TXT) 📗
Она опустила письмо в Тахта-Купыр. Перешла улицу к трамвайному кругу. Позванивая, развернулся нужный номер. Стали густо садиться и в передние и в задние двери. Людмила Афанасьевна поспешила захватить место — и это была первая внешняя мелкая мысль, начинавшая превращать её из оракула человеческих судеб в простого трамвайного пассажира, которого толкали запросто.
Но ещё и под дребезжание трамвая по старой однопутной колее и на долгих разминных остановках Людмила Афанасьевна смотрела в окно неосмысленно, все додумывая то о лёгочных метастазах у Мурсалимова, то о возможном влиянии уколов на Русанова. Его обидная наставительность и угрозы, с которыми он выступил сегодня на обходе, затёртые с утра другими впечатлениями, сейчас, после конца дня, проступили угнетающим осадком: на вечер и на ночь.
Многие женщины в трамвае, как и Людмила Афанасьевна, были не с малоемкими дамскими сумочками, а с сумками-баулами, куда можно затолкать живого поросёнка или четыре буханки хлеба. С каждой пройденной остановкой и с каждым магазином, промелькнувшим за окном, Людмилой Афанасьевной завладевали мысли о хозяйстве и о доме. Всё это было — на ней и только на ней, потому что какой спрос с мужчин? И муж и сын у неё были такие, что когда она уезжала на конференцию в Москву — они и посуды не мыли неделю: не потому, что хотели приберечь это для неё, а — не видели в этой повторительной, вечно возобновляемой работе смысла.
Была и дочь у Людмилы Афанасьевны — уже замужняя, с маленьким на руках, и даже уже почти не замужняя, потому что шло к разводу. В первый раз за день вспомнив сейчас о дочери, Людмила Афанасьевна не повеселела.
Сегодня была пятница. В это воскресенье Людмила Афанасьевна непременно должна была совершить большую стирку, уж набралось. Значит, обед на первую половину недели (она готовила его дважды в неделю) надо было во что бы то ни стало варить в субботу вечером. А замочить белье — сегодня бы тоже, когда б ни лечь. И в общем сейчас и только сейчас, хоть и поздно, ехать на главный рынок — там и до вечера кого-нибудь застанешь.
Она сошла, где надо было пересаживаться на другой, трамвай, но посмотрела на соседний зеркальный «Гастроном» и решила в него заглянуть. В мясном отделе было пусто, и продавец даже ушёл. В рыбном нечего было брать — селёдка, солёная камбала, консервы. Пройдя живописные многоцветные пирамиды винных бутылок и коричневые — совсем под колбасу — сырные круглые стержни, она наметила в бакалейном взять две бутылки подсолнечного масла (перед тем было только хлопковое) и ячневый концентрат. Так она и сделала — пересекла мирный магазин, заплатила в кассу, вернулась в бакалейный.
Но пока она тут стояла за двумя человеками — какой-то оживлённый шум поднялся в магазине, повалил с улицы народ, и все выстраивались в гастрономический и в кассу. Людмила Афанасьевна дрогнула и, не дождавшись получить в бакалейном, ускоренным шагом пошла тоже занимать и к продавцу и в кассу. Ещё ничего не было за изогнутым оргстеклом прилавка, но теснившиеся женщины точно сказали, что будут давать ветчинно-рубленную по килограмму в руки.
Так удачно она попала, что был смысл чуть позже занять и вторую очередь.
8
Если б не этот охват рака по шее, Ефрем Поддуев был бы мужчина в расцвете. Ему ещё не сравнялось полуста, и был он крепок в плечах, твёрд в ногах и здрав умом. Он не то, что был двужильный, но двухребетный, и после восьми часов мог ещё восемь отработать как первую смену. В молодости на Каме таскал он шестипудовые мешки, и из силы той не много убыло, он и сейчас не отрекался выкатить с рабочими бетономешалку на помост. Перебывал он во многих краях, переделал пропасть разной работы, там ломал, там копал, там снабжал, а здесь строил, не унижался считать ниже червонца, от полулитра не шатался, за вторым литром не тянулся — и так он чувствовал себя и вокруг себя, что ни предела, ни рубежа не поставлено Ефрему Поддуеву, а всегда он будет такой. Несмотря на силищу, на фронте он не бывал — бронировали его спецстроительства, не отведал он ни ран, ни госпиталей. И ничем никогда не болел — ни тяжёлым, ни гриппом, ни в эпидемию, ни даже зубами.
И только в запрошлом году первый раз заболел — и сразу вот этим.
Раком.
Это сейчас он так с размаху лепил: «раком», а долго-долго перед собой притворялся, что нет ничего, пустяки, и сколько терпёжу было — оттягивал, не шёл к врачам. И когда уже пошёл, и от диспансера к диспансеру дослали его в раковый, а здесь всем до одного больным говорили, что у них — не рак, — Ефрем не захотел смекнуть, что у него, не поверил своему природному уму, а поверил своему хотению: не рак у него и обойдётся.
А заболел у Ефрема — язык, поворотливый, ладный, незаметный, в глаза никогда не видный и такой полезный в жизни язык. За полёта лет много он этим языком поупражнялся. Этим языком он себе выговаривал плату там, где не заработал. Клялся в том, чего не делал. Распинался, чему не верил. И кричал на начальство. И обкладывал рабочих. И укрючливо матюгался, подцепляя, что там святей да дороже, и наслаждался коленами многими, как соловей. И анекдоты выкладывал жирнозадые, только всегда без политики. И волжские песни пел. И многим бабам, рассеянным по всей земле, врал, что не женат, что детей нет, что вернётся через неделю и будут дом строить. "Ах, чтоб твой язык отсох!" — проклинала одна такая временная тёща. Но язык только в шибко пьяном виде отказывал Ефрему.
И вдруг — стал наращиваться. Цепляться о зубы. Не помещаться в сочном мягком зеве.
А Ефрем все отряхивался, всё скалился перед товарищами:
— Поддуев? Ничего на свете не боется! И те говорили:
— Да-а, вот у Поддуева — сила воли.
А это была не сила воли, а — упятерённый страх. Не из силы воли — из страха он держался и держался за работу, как только мог откладывая операцию. Всей жизнью своей Поддуев был подготовлен к жизни, а не к умиранию. Этот переход был ему свыше сил, он не знал путей этого перехода — и отгонял его от себя тем, что был на ногах и каждый день, как ни в чём не бывало, шёл на работу и слышал похвалы своей воле.
Не дался он операции, и лечение начали иголками: впускали в язык иголки, как грешнику в аду, и по нескольку суток держали. Так хотелось Ефрему этим и обойтись, так он надеялся! — нет. Распухал язык. И уже не найдя в себе той силы воли, быковатую голову опустив на белый амбулаторный стол, Ефрем согласился.
Операцию делал Лев Леонидович — и замечательно сделал! Как обещал: укоротился язык, сузился, но быстро привыкал обращаться снова и всё то же говорить, что и раньше, только может не так чисто. Ещё покололи иголками, отпустили, вызвали, и Лев Леонидович сказал: "А теперь через три месяца приезжай и ещё одну операцию сделаем — на шее. Эта — лёгкая будет."
Но таких «лёгких» на шее Поддуев тут уже насмотрелся и не явился в срок. Ему присылали по почте вызовы — он на них не отвечал. Он вообще привык на одном месте долго не жить и шутя мог сейчас заявиться хоть на Колыму, хоть в Хакассию. Нигде его не держало ни имущество, ни квартира, ни семья — только любил он вольную жизнь да деньги в кармане. А из клиники писали: сами не явитесь, приведём через милицию. Вот какая власть была у ракового диспансера даже над теми, у кого вовсе не рак.
Он поехал. Он мог, конечно, ещё не дать согласия, но Лев Леонидович щупал его шею и крепко ругал за задержку. И Ефрема порезали справа и слева по шее, как режутся ножами блатари, и долго он тут лежал в обмоте, а выпустили, качая головами.
Но уже в вольной жизни не нашёл он прежнего вкуса: разонравилась ему и работа и гулянки, и питье и курье. На шее у него не мягчело, а брякло, и потягивало, и покалывало, и постреливало, даже и в голову. Болезнь поднималась по шее едва не к ушам.
И когда месячишко назад он вернулся опять все к тому же старому зданию из серого кирпича с добротной открытой расшивкой швов, и взошёл на то же полированное тысячами ног крылечко меж тополей, и хирурги тотчас за него схватились, как за родного, и опять он был в полосатом больничном и в той же палате близ операционной с окнами, упёртыми в задний забор, и ожидал операцию, по бедной шее вторую, а общим счётом третью, — Ефрем Поддуев больше не мог себе врать и не врал. Он сознался, что у него — рак.