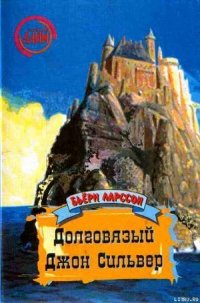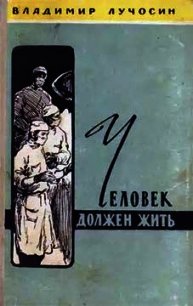Вакх Сидоров Чайкин, или Рассказ его о собственном своем житье-бытье, за первую половину жизни своей - Даль Владимир Иванович
Инспектор управы, как ближайший начальник и покровитель мой, призвал меня, когда весть дошла до него, частным образом и глаз на глаз расспросил обо всем подробно, приговаривая: «Да как же это так?» – и пожимаясь то в ту, то в другую сторону, как будто его жгло то тут, то там или что-нибудь такое беспокоило; наконец, убедившись в истине дела, советовал мне с видом покровительства отправить, коли уж это так случилось, старика своего потихоньку домой на родину. Наш инспектор управы был также в своем роде человек: он чернил искусно густые, седые волосы свои, употреблял много притираний и разных косметических средств и снадобий, одевался и убирался каждое утро часа два, запираясь один на замок, выступал очень важно и величаво, любил цепочки, печатки, перстни, кольца и булавочки с мушками и козявками, поместил сам себя врачом при больнице, в богадельне, в приказе, при гимназии, в семинарии – словом, при всех заведениях в Алтынове, где только было хоть малое жалованье; доносил всегда подробно о своих обширных занятиях и в круглый год не заглядывал ни одного разу никуда. По важности чина его и места это и действительно было бы неприлично; больным уже легко было оттого, что он там числился. Там всем заведовали фельдшера и даже писали по форме скорбные листы и названия болезней на дощечках. Итак, он посоветовал мне отправить отца скорее на родину его.
– Кому же он здесь мешает? – спросил я.
– Ну оно, видите, неловко: как же вы хотите жить в одном городе с родственником из такого сословия -.-рассудите, я советую вам начальнически; это может вам повредить, так сказать.
– Если бы я жил с отцом и вперед, как доселе, когда не знал его, врознь в одном городе, – продолжал я, – тогда, конечно, это могло бы дать невыгодное обо мне понятие; но как мы отныне со стариком не расстанемся и будем жить вместе, то я не вижу тут никакого неудобства.
Инспектор посмотрел на меня в каком-то недоумении, потом, приподняв брови, отвернулся, кашлянул два раза и чихнул притворно, что он делал, впрочем, с большим искусством в критических положениях, когда хотел вдруг переменить или оторвать разговор. Помолчав немного, я прибавил еще:
– Впрочем, во всяком случае, обстоятельство это не будет беспокоить никого, ни даже вас, Сергей Сергеевич, если только вы будете, по всегдашнему своему расположению ко мне, столь добры, что не задержите просьбы моей: я намерен ныне же подать в отставку.
У Сергея Сергеевича отлегло много от сердца, когда он это услышал; ему с меня, как с козла, не было ни шерсти, ни молока, и это ему давно уже надоело; придиркам всех родов не было конца. По временам только он снова мирился со мною по какому-нибудь особому поводу, давал мне много хороших наставлений и надеялся, что у нас вперед дела пойдут лучше; а впоследствии, когда я, по недогадливости своей, не заправлял их ничем, всегда возникали опять новые неудовольствия.
Я вышел в отставку вот по какому поводу: Негуров, учредив в имении порядочное управление, вскоре приобрел доверенность и уважение не только своего помещика, но и двух-трех соседних; он устраивал в селе при заводе больницу и убедил соседей в пользе последовать примеру его и взять на первый случай на общий счет врача. Таким образом, он предложил мне место это, которое вполне обеспечивало меня насчет насущной жизни. С жаром принялся я тут снова за свою обязанность и впервые почувствовал себя на своем месте; мог жить и действовать свободно и благодетельно в кругу своего звания, где никто не перечил мне, не искал случая сделать мне какую-нибудь неприятность, не требовал одной только утомительной и бесполезной письменной отчетности, как главнейшего предмета, а где обращали внимание на труды, заботы и успехи мои в пользовании немощных, где вникали во всякое благоразумное предложение и требование мое и дали полную власть заботиться не только о больных, но и о сохранении здоровых. Таким образом, сделали распоряжение, по коему все женщины в деревне на все время беременности своей освобождались от работ; выстроили бани, запретили мочить конопель в озере, из которого все берут воду, завели продажу говядины меною на хлеб, чтобы дать всякому средство иметь чаще мясную пищу; приняли множество мер противу смертности младенцев, и я надеюсь, что в течение немногих лет старания наши покажут в числительных выводах пользу всех этих распоряжений.
Вот под какими обстоятельствами, приметами и знамениями праздновал я в кругу семьи Негурова тридцатое рождение свое. Обещав рассказ о жизни моей только за тридцать лет, за первую половину, я бы должен был на этом закончить нынешние записки свои; но для полноты дела следует прихватить еще и часть тридцать первого года, с коего начинается вовсе для меня новая жизнь, новое летосчисление.
Мой добрый безногий француз, переходя из рук в руки, попал между тем – куда бы вы думали? – в дом к моему полковнику, у которого детки подросли и требовали воспитания. Француз всегда писал мне от времени до времени и описал мне с особенным жаром свой торжественный въезд и вход на костылях в дом моего благодетеля. Вечно юный сердцем старик описывал с восхищением, как приняли в доме полковника бывшего учителя Вакха Чайкина, с каким уважением с ним обходились, как все не могли им нарадоваться. «Да, – прибавил он, – отставной артиллерист большой армии, отставной учитель Вашеньки опять вступил на службу, но чувствует, что вскоре будет отставлен и уволен от службы и звания гражданина этого мира, скоро будет отставным человеком. Старость не беда, но беда – дряхлость, которая заставляет поглядывать иногда мимоходом в готовую яму. Там мое место, Ваша, там, это я чувствую, и я бы давно остыл уже, если бы меня не грели иногда воспоминания. Здесь, Ваша, есть еще одно солнышко, которое ходит за мною, как дочь за отцом, – и это в честь тебе, друг мой, honneur aux braves! [21] Груша кланяется тебе, и признаюсь тебе, сухой поклон этот по себе, без этого думного, спокойного личика, – пустая фраза, а я таки когда-нибудь соберусь, и спишу ее, и пришлю тебе напоказ темно-русую головку, которая не может быть, чтобы не оставила в тебе каких-нибудь приятных воспоминаний».
Приписка. «Письмо осталось на неделю, не попало на почту, и я посылаю тебе обещанное сокровище: видишь, я ребячусь, как школьник, и делаю непозволительные шалости – не выдай меня, не продай». Личико это было то же, как шесть-семь лет тому назад, когда оно прожило на свете всего лет пятнадцать или шестнадцать, – детская резвость его только смягчилась умным и спокойным взглядом, полным души. Прежнее, былое пробудилось во мне с неимоверною силою, я заплакал как ребенок.
Я потребовал отчета у француза: каким образом Груша, которая давно замужем, жила опять в доме у полковника? И француз отвечал мне, что она никогда замуж не выходила; она была помолвлена несколько лет тому, по настоянию сестры и зятя, но не смогла одолеть отвращения своего от замужества и, по личному объяснению с женихом своим, осталась опять свободною.
Передумав несколько времени и переработав в голове и в сердце это, я объяснил своему французу все, сказав, кто я теперь и чем могу располагать, и поручил ему сделать разведку и опознаться на месте, как и где рассудит, и уведомить меня: нет ли для меня еще какой-нибудь надежды? Переговоры эти кончились тем, что я поскакал туда сам и привез с собою в столицу нашу, село Негожево, в шестидесяти верстах от Алтынова, молодую жену, Грушу. Француза мы оставили полковнику еще на время, с тем чтобы он приехал умирать к нам, и он свято обещал исполнить это, и вскоре. Батюшка живет, разумеется, с нами, но не ест хлеба даром: он еще свеж и здоров и чеботарит преспокойно на весь дом наш, потому что ему сидеть сложа руки и грешно и скучно.
21
Почесть смелым (франц.).