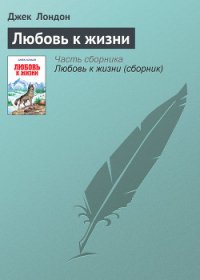Джон ячменное зерно. Рассказы разных лет - Лондон Джек (читать книги регистрация txt) 📗
Мы выудили его из воды, снесли вниз, раздели и уложили на койку, после чего и сами почувствовали себя совсем разбитыми. Но все-таки нам с Акселем хотелось еще побывать на берегу; мы и отправились, оставив на судне громко храпевшего Виктора. Любопытно то, что товарищи Виктора, сами не дураки выпить, осуждали его. Они неодобрительно качали головой и бормотали: «Такому человеку пить нельзя!» А между тем Виктор был самым ловким матросом и самым добродушным человеком из всего экипажа. Это был во всех отношениях идеал моряка; товарищи ценили его по заслугам, уважали и любили. Но Джон Ячменное Зерно умел превращать его в одержимого. Вот здесь-то и делали различие между ним и собой прочие пьяницы. Они знали, что от пьянства — матросы всегда пьют чрезмерно — они тоже сходят с ума, но они впадали лишь в тихое помешательство. Буйное помешательство — вот это уже не годилось: оно портило веселье другим и часто кончалось трагедией. С точки зрения этих людей, в тихом помешательстве не было ничего предосудительного. Если мы станем на общечеловеческую точку зрения, разве не всякое помешательство является предосудительным? А кто умеет внушить безумие лучше Джона Ячменное Зерно?
Однако вернемся к нашему рассказу. Очутившись на берегу, мы с Акселем забрались в уютный японский трактирчик, уселись там и начали подсчитывать и сравнивать, у кого из нас больше синяков; за стаканчиком мы обсуждали недавние происшествия. Нам понравилось спокойно пить в тишине, и мы пропустили еще по одному. Тут в трактирчик заглянул один из наших товарищей, потом еще несколько, и мы продолжали с ними нашу скромную попойку. Наконец, мы пригласили японский оркестр, но не успели прозвенеть первые ноты самисеныи тайко, как вдруг с улицы донесся дикий вой, ясно слышный сквозь бумажные стены. Мы узнали этот звук. Виктор, все еще продолжая вопить и совершенно пренебрегая дверями, влетел к нам, прорвав хрупкие стены дома. Глаза у него были налиты кровью, он дико размахивал мускулистыми руками. На него напало прежнее безумие; ему хотелось все уничтожать на своем пути; он жаждал крови, чьей-нибудь крови. Музыканты обратились в бегство; мы тоже. Спасаясь, мы вбегали в какие-то двери, порой лезли напролом сквозь бумажные стены; мы готовы были на все, только бы нам удрать.
К тому времени, когда дом оказался наполовину разрушенным, Виктор успел немного успокоиться; мы с Акселем согласились уплатить хозяину за все убытки, а сами отправились на поиски более спокойного местечка. На главной улице шел дым коромыслом. Сотни матросов в буйном веселье гуляли взад и вперед. Ввиду того, что начальник полиции со своим немногочисленным отрядом оказался совершенно бессильным, губернатор приказал всем капитанам судов собрать свои команды на корабли до захода солнца.
Что? Так вот как хотят с нами обращаться! Не успела эта новость дойти до шхун, как на них не осталось ни одной души. Все сошли на берег. Даже те, кто вовсе не собирался раньше, начали прыгать в лодки. Злосчастный приказ губернатора спровоцировал всеобщий скандал. После захода солнца прошло несколько часов, но матросы заявляли одно: «Пусть только попробуют вернуть нас на суда!». Они ходили по городу и приглашали все власти попытаться это сделать. Самая большая толпа собралась перед домом губернатора; пели во все горло матросские песни; из рук в руки передавали бутылки; некоторые шумно плясали. Полицейские, в том числе и резервный отряд, стояли кучками, совершенно беспомощные, и ждали от губернатора приказания, которого он весьма благоразумно не отдавал.
Мне эта вакханалия представлялась чем-то величественным. Казалось, будто вернулись времена испанских пиратов. Здесь был широкий, свободный разгул — это было достойно великих авантюристов. И я тоже участвовал в этом разгуле, и я был одним из этих морских разбойников, буйствовавших среди бумажных домиков японского городка.
Губернатор так и не отдал приказа очистить улицы. Между тем мы с Акселем продолжали бродить из трактира в трактир и везде выпивали. Вскоре во время какой-то пьяной проделки мы с ним разлучились, и я потерял его из виду; у меня у самого уже зашумело в голове. Я побрел дальше, на каждом шагу заводя новые знакомства; я пил стакан за стаканом и пьянел все больше и больше. Помню, я сидел где-то вместе с японскими рыбаками, с рулевыми гавайцами из нашей же флотилии и молодым матросом-датчанином, только что вернувшимся из Аргентины, где он был ковбоем. Этот датчанин очень интересовался местными обычаями и обрядами. И вот мы начали пить сакэ, с полным и точным соблюдением всего японского этикета. Это был бесцветный, мягкий, тепленький напиток; подавали его в крошечных фарфоровых чашечках.
Помню еще мою встречу с юнгами — парнями лет восемнадцати — двадцати из английских семей средней руки. Они сбежали с судов, куда их отдали для обучения морскому делу, и вот теперь они очутились на промысловых шхунах в качестве матросов. Это были цветущие, ясноглазые юнцы с гладкой кожей; они были молоды, как и я, и тоже учились жизни среди взрослых мужчин. Да они и вправду уже были взрослыми. Они не хотели пить слабый сакэ, им нужны были четырехугольные бутылки, наполненные едкой, огненной жидкостью, которая зажигала у них кровь и возбуждала пожар в мозгу. Помню одну трогательную песню, которую они пели, с таким припевом:
Хочу тебе кольцо я дать,
Сынок мой дорогой,
Чтоб вспомнил про свою ты мать
В час бури роковой.
И они плакали, когда пели эту песню, — эти бесшабашные юные негодяи, нанесшие такой удар гордости своих матерей. Я тоже пел вместе с ними, и плакал вместе с ними, и наслаждался этой трогательной и драматической сценой, и пытался дать какое-то пьяное хаотическое объяснение жизни и романтическим приключениям. И еще одна картинка, которая ярко и отчетливо выделяется в тумане времени: мы — эти юнцы и я — идем по улице, обнявшись и покачиваясь, а над нами сияют звезды. Мы поем какую-то лихую матросскую песню, поем все, за исключением одного: он сидит на земле и горько плачет, а мы отбиваем такт, размахивая бутылками из-под джина. С обоих концов улицы доносятся голоса матросов, поющих, как и мы, хором, и вся жизнь кажется значительной, прекрасной, каким-то фантастическим и великолепным безумием.
Затем опять следует тьма, после нее я, открыв глаза, вижу при бледном свете начинающегося дня японку, которая заботливо и тревожно склоняется надо мной. Это жена местного лоцмана, и я лежу у двери ее дома. Мне холодно, я весь дрожу, я болен после вчерашней попойки. Чувствую, что я слишком легко одет. Ах, эти негодные юнги! У них, видно, вошло в привычку удирать. Теперь они удрали со всем моим имуществом. Часы мои исчезли. Несколько долларов, которые у меня были, тоже пропали. Нет и моего пальто. Пояса тоже. И… да, верно, башмаки тоже утащили.
Я описал для примера один из десяти дней, проведенных нами на Бонинских островах. Виктор оправился от своего временного сумасшествия, разыскал меня и Акселя, и мы после этого пили с большей осторожностью. Но мы так и не поднялись по тропинке из лавы, заросшей цветами. Город да бутылки из-под джина — вот все, что мы видели.
Тот, кто сам обжегся, не может не предупреждать других об опасности. Поступи я так, как следовало, я мог увидать на Бонинских островах много интересного, получить от многого настоящее удовольствие. Но я отлично понимаю, что дело вовсе не в том, как следует или как не следует поступать. Важно то, как поступаешь на самом деле. Такова извечная, неопровержимая истина. Я делал то, что делал. Я делал то, что делали все матросы на Бонинских островах. Я делал то, что делали в то самое время миллионы людей в различных точках земного шара. Я поступал так потому, что все меня толкало на этот путь, потому что я был человеком, вернее, мальчишкой, продуктом своей среды; потому что я не был ни болезненно-малокровным субъектом, ни полубогом. Я был просто человеком и шел по тому же пути, по которому шли все, шли люди, пред которыми я преклонялся, прошу не забывать — здоровые полнокровные мужчины, крепкие, могучие, шумливые, свободные духом, не рассчитывавшие по-мещански каждый свой шаг, а с истинно царским великолепием расточавшие и жизнь, и свои силы, и деньги.