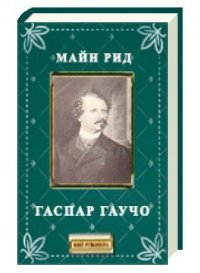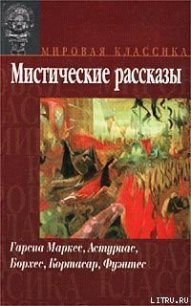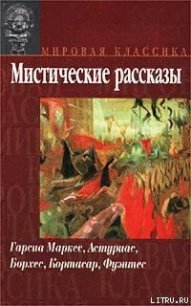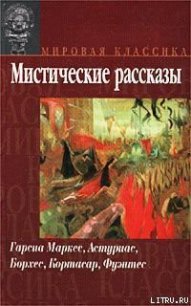Маисовые люди - Астуриас Мигель Анхель (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Гойо Йик покинул свое дерево, когда ярмарка еще не кончилась. В этот день он решил собрать побольше. К посоху он привязал платок с несколькими узелками: для мелких монет побольше, для крупных поменьше и совсем маленький для бумажек. Колени у него задубели, так долго он на них простоял; рука онемела и высохла, так долго он ее протягивал; язык не двигался, так много он клянчил, молил и бранил заодно бродячих псов; худое лицо сплошь покрылось пылью. Он не стал ждать, пока его умоют первые дожди. Он покинул дерево, свой амвон, свою кафедру, прежде, чем капли, круглые и тяжелые, как серебряные монеты, упали на дорогу.
Тупыми ложками старческих ногтей Гойо Йик не мог развязать двойной узел, которым было затянуто пятое вздутие платка. Он чуть не порвал ветхую ткань, от грязи уподобившуюся кухонной тряпке, выругался, дернул узел зубами и, словно он их выплюнул, последние монетки посыпались в шляпу, которую он держал между ног, сидя у большого камня спиной к дороге. Долго считал он и пересчитывал. Были там монетки поменьше, как ноготь мизинца, были средние, как ноготь указательного пальца, и большие, как ноготь большого. Наконец он сосчитал все и решил, что на визит к врачу ему хватит. Он поделил монеты на кучки, снова завязал платок узлами, встал и пошел к сеньору Чигуичону Кулебро. Путь он узнавал по приметам: вот камни, вот деревья с толстыми корнями, вот чьи-то участки, вот поворот, еще один, еще и, наконец, прочный старый мост.
Дом знахаря стоял у самого моста, но маленькое расстояние между ними слепой прошел хромая, потому что от моста к дому вел неровный склон, поросший кустами матасаны. Гойо Йик узнал их по запаху. Он нюхал, словно пес, чтобы убедиться, туда ли забрел, но он и вообще любил благоухание этих вкусных плодов. Убедившись, он прошел по мосту и очутился у дома.
– Ты видишь только цвет амате, а хочешь прозреть и увидеть все цветы. Врожденная слепота черна, как твоя неблагодарность, и горька, как неочищенный мед. Вечность ждет тебя под деревом, дающим тебе кров, опору и тень, а ты возмечтал прозреть и не видеть цветов, скрытых в плоде и ведомых лишь слепому…
– Не в том дело, – сказал Гойо Йик, нелепо мотнув головой, чтобы узнать, где именно стоит знахарь, который говорил хрипло, так хрипло, как еще никто не говорил, – не в том дело, а ^благодарны почти что все, иначе своего не добьешься, сеньор Чигуичон. Очень, очень неблагодарны, иначе своего не достигнешь.
– Я всегда предлагал тебя вылечить, если твоя слепота излечима, а ты всегда боялся. Тебе нравились не глаза, а эти толстые черви, из которых сочится сыворотка. Посмотрим, можно ли еще тебе помочь. У болезней тоже свой срок, пропустишь – и лечить нельзя.
– Вы скажите цену, чтобы мне знать, хватит ли того, что я собрал на ярмарке. Деньги я принес… Только хватит ли…
– Тех, которые, как ты, видят лишь цветок амате, вылечить нелегко. Это не зуб выдернуть. Сперва надо узнать, куда движется луна, на которой похоронены кости святых угодников. Надо узнать, как движется ветер с пасеки – тихо, словно кот в кустах, или яростно и буйно. Если он тих – это хорошо, если буен – плохо, от ветра этого воздух становится тяжелым и густым, как мед, а для лечения нужно, чтобы воздух был легок и ласков. И потом, я должен посмотреть, какой ты слепотой болен. Одни слепые от рождения, других ослепила черная колючка или червь, а человек и не заметит, как он входит в кровь и губит тебя потихоньку. Легче всего вылечить от бельма. Его снимаешь с глаза, словно тянешь волокно из осоки. Это и есть волокно, обмотавшее зрачок сразу, от холода, или медленно, понемногу. Чтобы вылечить от него, нужно крутить зрачок и крутить, пока все волокно не раскрутится. Боль страшная, словно перец сыплешь в открытую рану.
– Я боли не боюсь, я на все согласен, только вылечите меня. Горько мне видеть один цветок амате, когда сердце живое и боль в нем хуже, чем от вашего лечения.
Сеньор Чигуичон Кулебро наклонился и стал считать деньги на жернове, который стоял на краю галерейки. На этом жернове он точил плотничьи инструменты и всегда считал на нем деньги, точил их, как говорил он то ли всерьез, то ли в шутку, чтобы они резали скаредным карман, а хитрым пальцы.
Гойо Йик, испещренный жилами, словно скроенный из старых листьев банана, в рваной шляпе, из которой на самой макушке торчал, словно лишайник на дереве, клочок волос, поводил молочно-белыми зрачками, стараясь определить, где знахарь, и говорил:
– Вы скажете, я притворяюсь храбрым и вру, но это правда. Пусть меня хоть живьем сожгут, лишь бы мне прозреть и возрадоваться.
– Если кто слепой от природы, вылечить его можно, – продолжал пояснения знахарь. Сосчитав деньги, он трогал слепому глаза, прощупывал опухшие веки, чтобы узнать, где таится недуг. – Бельмо можно вылечить, и слепоту от простуды, и слепоту от холода…
Гойо Йик покорно терпел. Он был рад, что попал в умелые руки, и, когда знахарь надавливал сильнее, не пугался, а благодарил его в душе, слушая при этом, как крепкие знахаревы зубы жуют и жуют белый кусок копалевой смолы, а язык перекатывает его от щеки к щеке. Слепому казалось, что сеньор Чигуичон связывает ниточкой слюны его набрякшие, словно зоб, глаза и шарик своей жвачки.
– Бельмо рано или поздно, – говорил знахарь, – наживают те, кто глядят-глядят и выбегут на улицу. Воздух им в лицо ударит, глаза дымкой затянутся. Лучше бы им зад застудить, там глаз нету, или пускай выходят пораньше, а то спешат помочиться и не успеют лица прикрыть. А для твоего недуга, Гойо Йик, нужно вот что: разрезать бельмо ножом, залить глаза соком растения с синим стеблем, синими листьями, желтыми, как бабочкины крылья, цветами и колючими ягодами, которые так любят голуби.
– Значит, я тут останусь, – проговорил слепой, измученный осмотром, и тронул глаза кончиками пальцев, словно сказал им: «Я здесь, не бойтесь, этот сеньор вас полечит, вы станете лучше, чище станете».
– Да, оставайся тут, а хочешь поесть – спроси на кухне.
– Дай вам господь за вашу доброту…
И Гойо Йик расположился на соломе, среди собак, под мерные чавкающие звуки – знахарь жевал свою жвачку, и в ночной тишине казалось, что чавканье наполняет весь дом. За стеной стрекотали кузнечики, по полу бегали мыши, но никогда и ни во что так не вслушивался слепой, как в этот звук, размеренный, словно тиканье часов. Бывают солнечные часы, бывают песочные, бывают обычные. Знахарь был жвачными часами. Каждый раз, когда он смыкал зубы, приближалось выздоровление. Наслушавшись, Гойо Йик тоже начинал жевать, только не жвачку, а мысль. «Мария Текун, дурная, дур-р-ная, дур-р-ная… дурр-на, дур-на, дур-на Мария Текун. Была бы со мной, не пришлось бы резать ножом глаза». Ему становилось страшно. Все же не шутка – резать глаз ножом. Он приподнялся. Он слышал, как и сердце его жует жвачку: «Дур-р-ная, дур-р-ная, дур-р-ная…» Солома благоухала ловкими руками, летним солнцем, копытами резвого коня. Где-то близко, над головой, за спиной, под рукой, у лица и колен, строгали и пилили доску. Может, сеньор Чигуичон Кулебро делал для него гроб. Может, он догадался, что слепой отдал ему не все деньги. Гойо Йик потрогал платок, перетянутый в нескольких местах и лежавший у него на животе, словно кусок кишки. Умереть он не боялся, только бы живым не похоронили, только бы не лежать в земле, как плод амате, скрывая в сердце Цвет измены, черный цветок обиды. В своем отчаянии он думал, что, когда прозреет, рядом окажется Мария Текун. Лишь ее он и хотел увидеть сразу, видеть вечно. Что ему свет, вещи, люди перед той, кого он нашел среди убитых, вынянчил, вырастил, обрюхатил? Знахарь жевал, а не жевал – пилил, а не пилил – строгал. Слепого сморил сон, и ему приснилось, что рядом лежит Мария Сакатон. Она ведь, дурная изменница, Мария Сакатон, это он ее назвал Марией Текун, потому что братья Текун отрубили у ее родни головы. Гойо Йик то спал, то не спал, и ему казалось, что под ним трепещущая от птиц тростниковая циновка, и птицы эти не птицы, а ласковые слова. Во сне он улыбался. Ему ли бояться гроба! В горах, у обрывов, на пустынных дорогах он призывал смерть с тех пор, как от него ушла с детьми Мария Текун.