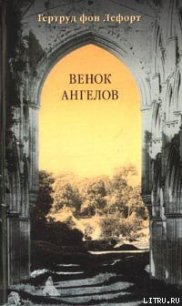Плат Святой Вероники - фон Лефорт Гертруд (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
И в этот раз все было так же, как всегда. Сидя с серьезно-внимательным лицом на моей постели и проверяя мой пульс или бесшумно, словно босиком, входя ко мне в комнату, чтобы немного облегчить мои страдания чашкой душистого чая или грелкой, она всякий раз неизменно располагала меня к себе. А еще я испытывала к ней чувство благодарности за то, что она не мучила меня упреками из-за злополучной «апельсиновой битвы». Я была в те дни настолько зависима от тетушки, что принимала пищу и питье, лекарства и всевозможные услуги как маленький беспомощный ребенок. И все же это были не материнские руки – от этих нежных, прохладных рук, казалось, веяло каким-то скрытым фанатизмом. Лишь спустя много времени я узнала, что тетушка Эдельгарт была мне чуть ли не благодарна за мою болезнь, потому что она как бы дала ей возможность сделать для меня в сфере телесного то, что она осталась «должна» мне в сфере духовного. Тогда же, во время болезни, я, конечно, чувствовала лишь, что она не может нарадоваться своей роли сиделки – даже ночью она не желала делить эту обязанность с Жаннет, хотя та все настойчивей предлагала ей свою помощь, видя, как она выбивается из сил и с каждым днем становится бледнее. Сама тетушка, разумеется, отрицала это и странным образом вдруг даже неожиданно похорошела, хотя моя болезнь доставила ей немало хлопот и беспокойства. В первый же вечер, когда у меня поднялась температура, она распорядилась оставить открытой дверь между ее и моей комнатами, которая обычно была заперта, чтобы я в любую минуту могла позвать ее, и, должна признаться, встревоженная своим болезненным состоянием, я была очень довольна этим распоряжением.
Впрочем, я и днем, когда спадала температура, была рада этой открытой двери. Лежу, бывало, в тяжелой полудреме бессилия, которое всегда оставлял после себя ночной жар, а тусклый взгляд мой слабо брезжит в комнату тетушки. Там всегда царила какая-то особенная тишина, не похожая на тишину других комнат, как будто скрытная душа хозяйки проникла своим молчанием каждый предмет и даже сумела отразить или заглушить звуки с улицы. Все в этой комнате было так приятно-умеренно, ничто не требовало ни малейшего напряжения или хотя бы пристального внимания, ни одна картина, ни один стул или шкаф не претендовали на красоту или ценность – каждая вещь, казалось, хотела быть не более чем скромным глашатаем земной насущности и незначительности. Единственное исключение представляло собой висящее над кроватью деревянное распятие. Эта была прекрасная, старинная работа, произведение поздней немецкой готики, зрелище яркое, но мучительное для моих глаз, воспитанных на образцах античной и итальянской красоты. Да и сам по себе предмет изображения всегда рождал во мне какое-то беспокойство, особенно с того посещения церкви Санта Мария Антиква, когда вид распятого Христа так испугал и опечалил меня. Но там, в сумрачных недрах Палатина, полупотухший образ Распятого был всего лишь бледной тенью, незримо распростершейся над всем, что меня окружало. Здесь же, в комнате тетушки Эдельгарт, этот образ был не просто далекой тенью: он страдал так невыносимо близко и так явственно, что я неизменно отводила свой беспомощный взор, и только благодаря той самой, удивительной позе тетушки Эдель, которая обычно молилась перед распятием, мне вновь и вновь приходилось смотреть на него. Однако при этом я всегда думала, что если бы сама была христианкой, то предпочла бы обращать свои молитвы не к этому кровавому символу, а к тихо мерцающей облатке в осиянной золотым нимбом дароносице.
Как только тетушка выносила постоянную близость этого распятия? Вопрос этот мучил меня, проникая даже в мои горячечные сны. В первые ночи, когда мне было особенно тяжело, мной иногда на мгновение овладевала жуткая фантазия: чудилось, будто с этого распятия время от времени срываются тяжелые, густые капли крови и падают на тетушкину постель, словно на снежный холм, или, вернее, на заснеженный могильный бугорок. А тетушка всегда спала так тихо, как будто и вправду лежала в могиле; я никогда не слышала ее дыхания и порой невольно думала с тревогой: не умерла ли она в самом деле? И это объясняло мне – в моих бредовых видениях, – почему она могла переносить присутствие распятия. Но каждый раз, когда я, насмерть перепуганная этой фантазией, непроизвольно вскрикивала и звала тетушку и она в следующее мгновение уже сидела на краю моей постели, в голове у меня тотчас же рождалась другая, совершенно противоположная фантазия: теперь мне казалось, что тетушка, напротив, вовсе не спала. И это предположение тоже связано было с мыслью о распятии: его близость, капли крови, падающие на постель, не дают ей уснуть!
Потом, когда мне стало немного легче, я, конечно же, поняла, что в то время как мне мерещилось, будто тетушка умерла или лежит в своей постели, не в силах уснуть, она попросту еще не ложилась. В маленьком, ярком луче ночной лампы я видела через открытую дверь, что на мой зов она поднимается не с постели, а с колен и что одета она как днем. Иногда к ней уже глубокой ночью бесшумно, сняв туфли, приходила Жаннет и уговаривала ее наконец отдохнуть. Мне отчетливо были слышны их разговоры, хотя они вели их шепотом: к моему удивлению, речь неизменно заходила о моем отце, о котором мы тогда как раз очень долго ничего не слышали. Похоже, тетушка Эдель опасалась, как бы с экспедицией, к которой он присоединился, не приключилось какой-нибудь беды. Я была убеждена, что она молилась за жизнь моего отца.
Тогда мне впервые пришла в голову мысль, что тетушкина ревность ко мне, быть может, имеет те же причины, что и бабушкина любовь к Энцио. Благодаря бабушке я уже начинала понимать, что все, что, по обыкновению, называют прошлым, – это, в сущности, просто немного приглушенное и потемневшее настоящее, а еще я знала, что тетушка была помолвлена с моим отцом, прежде чем он женился на моей маме. Правда, она никогда не поступила бы как бабушка, это было не в ее натуре – я вообще не могла представить ее связанной с кем бы то ни было по-настоящему тесными узами, – но, может быть, она в юности была совсем другой и еще не вполне забыла то время. Я решила при первом же удобном случае спросить об этом Жаннет. Она обычно немного развлекала меня по утрам, пока ее подруга была в церкви, и вот через день или два я спросила ее, любила ли тетушка Эдель моего отца, будучи его невестой.
Жаннет, которая тогда в молчаливом согласии с бабушкой еще больше, чем прежде, старалась использовать каждую возможность, чтобы сблизить меня с тетушкой, на мгновение задумалась, затем сказала, что тетушка, пожалуй, все же по-своему любила моего отца.
– Но отчего же она расторгла помолвку? – спросила я.
Жаннет ответила, что помолвку расторгла не тетушка – это сделал мой отец, когда убедился, что не может украсить жизнь своей невесты.
Этого я уже совершенно не понимала, ибо полагала, что если любишь человека, то человек этот означает для тебя несравнимо больше, чем просто «украшение жизни».
– Твоя тетушка слишком любила Бога, – пояснила Жаннет.
Эти слова ее внезапно пролили яркий свет на судьбу тетушки Эдельгарт и в мгновение ока не объяснили, а просто вообще лишили почвы мою мысль о ее ревности. Любить Бога, любить Бога так, что мужчина, который должен был стать твоим мужем, уже неспособен «украсить» твою жизнь, – это, конечно, что-то совсем другое, чем просто набожность и привычка ходить в церковь! Если так любишь Бога – что тогда означают для тебя люди? Во всяком случае, далеко не предмет желания или зависти, которую я ошибочно предполагала в тетушке; все, что порождало во мне это предположение, очевидно, имело совершенно другие причины или, скорее, могло иметь лишь одну-единственную причину. После этого случая я стала очень внимательно вслушиваться в разговоры в соседней комнате поздними вечерами, когда Жаннет заглядывала к тетушке, и постепенно пришла к убеждению, что тетушка Эдель молилась не только за моего отца, но и за меня. Она молилась о том, чтобы мы оба когда-нибудь все же причастились христианских истин и Божьей Благодати. Ибо самой большой бедой тетушке Эдель казалась не сама по себе возможность гибели моего отца в дальних, неведомых странах – ее больше заботило то, что, запретив мое религиозное воспитание, он теперь, быть может, унесет свое вероотступничество с собой в могилу.