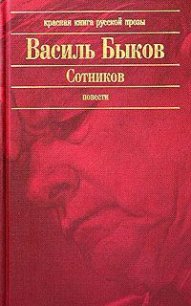Зенитчица - Быков Василь Владимирович (читать книги бесплатно полностью .txt) 📗
— Что? Что там видать? — спрашивала Нина. Не прекращая наблюдать, он слегка обернулся к ней, снял с плеча автомат ППШ.
— Ни черта не разобрать. Похоже — передовая.
— Где? Там? — вскочив, девушка встала с ним рядом.
— Вон видишь — столбы. Значит, дорога. За дорогой наши.
— Наши?
— Но там простреливается. Жаль, не успели по-темному.
— Не успели…
Она разочарованно отвернулась от стены капонира, встряхнула головой, закидывая назад короткие светлые волосы. Пилотку потеряла вчера, волосы были пересыпаны землей и пылью от взрывов, извоженная в пыли воронок юбчонка на коленях и бедрах намокла от росы. В кирзовых сапогах давно сбились портянки, но не было возможности переобуться. Комбат, вроде без внимания к спутнице, все исследовал даль, чтобы окончательно убедиться, что там свои. На его моложавом, с отросшей щетиной, чернобровом лице лежала привычная тень тревожных забот. Ей захотелось, чтобы он взглянул на нее — одарил теплотой всегда желанного для нее внимания.
— Коля…
— Ну, — отозвался он, однако не повернув к ней головы. — Чего тебе?
— Ничего, — сказала она, слегка досадуя. — А мы выйдем?
— Выйдем, выйдем, — ответил он. — Ты сиди, не высовывайся.
Она опустилась наземь возле его запыленных сапог и сидела так, сжавшись в болезненно-нервный комочек. Она уже спала с ним — тайком, ночью, когда батарея отдыхала и лишь часовые бодрствовали возле орудий на огневых позициях. В такое время она тихонько пробиралась к его землянке и скрывалась за натянутой плащ-палаткой, возле которой дремал над телефоном связист Блошкин. Любовь у них была молчаливая, жаркая, она сразу хмелела от прикосновения его требовательных рук и его грубоватой ласки и, наверно, не уходила бы от него, если бы не скорый рассвет. Как только начинало светать, торопливо совала босые ноги в остывшие за ночь сапоги и мчалась на пригорок, где размещалась их прожекторная позиция. Потом ждала. Дежурила, сидела в боевом расчете, ухаживала за матчастью, и все мысли ее, все воспоминания уходили за овражек, на батарейный КП, где оставался он. Так хотелось, чтобы он пришел к их прожектору, чтобы снова увидеть его, может, перекинуться словом. Как-то на склоне дня он и в самом деле наведался к прожектористкам, старшина Дуся Амельченко отрапортовала, он ничего не сказал ей, обошел прожектор, молча потрогал ногой толстые жгуты проводов и ушел. Она помрачнела сразу, ушла в землянку и долго лежала с закрытыми глазами. Не набылась она с ним, не налюбилась — все ждала-жаждала, но не было как, не хватало времени. И так до разгрома, когда они очутились вдвоем. Но тут все оказалось иначе — тут он вроде и не замечал ее, да и ей стало не до него — гибель подруг, ошалелое бегство в ночи, кажется, уничтожили в ее душе все другие чувства, кроме всевластного чувства страха, опасности, единственного стремления — спастись. Опять же бессонные ночные блуждания по полям и перелескам, бесконечные игры со смертью отнимали силы, хмельной усталостью мутили сознание. Временами в провалах памяти она переставала ощущать себя, даже понимать, кто она и где очутилась.
Согнувшись у бровки капонира, Колесник молча и пристально вглядывался в широкое устье рва-ложбины, изучая рискованную возможность выскользнуть из западни. А она сидела и ждала, как всегда, во всем полагаясь на него. Усталость постепенно стала овладевать ею, наваливалась дрема, хотя знала она, спать было нельзя. За пригорком слышалась стрельба, вроде бы издали стали бить минометы, но полета мин не было слышно — значит, стреляли в сторону. Значит, там наши.
— Ну что там? — время от времени спрашивала она у комбата.
— Ничего. Сиди…
И она терпеливо сидела, отчаянно борясь с дремой, как когда-то сидела на КП командира дивизии, когда недолго служила в роте связи. В той роте, наверно, можно было служить долго, наверно, та рота в это окружение не попала, вырвалась вместе со штабом дивизии. Вообще-то, конечно, глупая она, Нинка Башмакова, зачем было ей жаловаться в политотдел на их начальника связи Блажного. Но очень уж он стал липнуть к ней — настойчиво, самонадеянно, как это он делал едва ли не со всеми девушками-связистками. Именно потому и пожаловалась, что слишком настойчиво и нагло. Опять же он был старый, некрасивый и, безусловно, семейный, а она тихонько и безответно любила тогда взводного старшего лейтенанта Артаева, который проявлял ноль внимания к ней. Но Артаева вскоре убило на переправе, а она из-за своей неразумной жалобы очутилась у зенитчиков на плацдарме…
Все-таки, наверно, она задремала и вдруг содрогнулась от совсем близких разрывов — уж не в том ли месте, куда им надлежало идти? С испугу она вскочила. Колесник стоял на своем прежнем месте, прислонясь к стене капонира и не отрывая взгляда от местности.
— Что? А?..
Комбат не ответил, и она встала рядом, стараясь понять или увидеть, что там происходит. Уже совсем рассвело, начиналось летнее утро, лучи невидимого из-за пригорка солнца ярко высветили спокойное, с редкими облачками небо. Всюду стало видно, особенно на противоположном склоне овражка, но там было пусто — спокойно лежал пологий, заросший сорняками склон.
За пригорком же разгорался огневой бой — вонзались куда-то пулеметные очереди, приглушенно трещали-лопались звуки винтовочных выстрелов; через головы, с усилием полосуя утренний воздух, пронеслись из тыла тяжелые снаряды. Взрывов, однако, не было слышно, все тонуло в грохоте и треске ближнего боя.
— Там наши! — вдруг с уверенностью сказал комбат и присел с ней рядом.
— Так пойдем! — встрепенулась она.
— Попытаемся. Только…
— Что? Там немцы?
— Немцы, конечно. Но…
Снова вскочив, он прилип к стене капонира — статный, в командирской обмундировке, с портупеей через плечо, тремя кубиками в черных, артиллерийских петлицах. Командир. Комбат. Для всех комбат, а для нее с какого-то времени — Коля.
Она понимала это его но: сейчас наступало самое для них важное и самое страшное. Или они наконец вырвутся из этой смертельной западни, или оба лягут на самом пороге к спасению.
Конечно, погибнуть она всегда боялась, но, может, больше, чем гибели, боялась плена. Она уже была наслышана, как поступают немцы с пленными, особенно девчатами — это было похуже смерти. Может, потому она за весь этот путь к спасению берегла единственную свою «лимонку», что неудобно болталась при ходьбе в кармане юбки. Граната не для немцев, это была граната для себя. В последний свой час. Правда, на батарее у нее была и винтовка образца 1891/30 года (длиннющая, с тонким штыком), но эту винтовку она оставила на позиции после ужасной бомбежки. Заваленная землей, сама кое-как выгреблась из-под завала, а винтовку искать не стала. Пусть пропадает винтовка, дал бы бог ноги. Ноги ее и спасали, как, впрочем, и всех остальных в этой ужасающей круговерти.
Колесник тем временем понял, что вроде бы наступал момент, к которому они стремились. Чувствовалось почти определенно, что за теми придорожными столбами, может, немного поодаль — наши. Он так стремился туда и даже порой терял веру, что это осуществится. Теперь последний рывок, и они среди своих. Но что после?
Вот это после его и смущало, о том после не хотелось и думать. Да он и не думал, пока они бежали в огненной пляске трассирующих очередей из немецких танков, лежали в земляном смерче бомбежек, проползая по ночам через немецкие позиции, теряя при этом своих и чужих бойцов и командиров. И девчат. Этих милых, наивных патриоток, что недавно еще осаждали тыловые военкоматы, приписывали себе недостающие годы рождения, плакали и просились, чтобы как можно скорее послали защищать родину. В этот бесконечный фронтовой бардак, огонь, кровь и смерть. Сколько их, растерзанных бомбами, расстрелянных из пулеметов, окровавленных, умирающих в окопной грязи, осталось там, на плацдарме. Может, только ему с этой милой наивной Башмаковой и повезло. Только ее он и вывел. Но хорошо, что вывел…
— Сейчас рванем, — сказал он и, может, впервые внимательным взглядом повел по ее исстрадавшемуся перепачканному землей лицу.