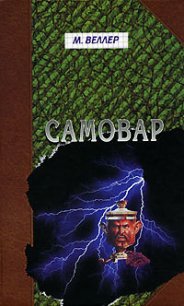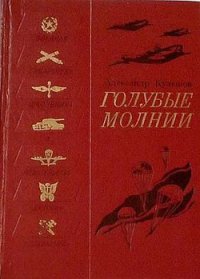Голубые города - Веллер Михаил Иосифович (прочитать книгу TXT) 📗
– Ка-акие люди! – весело закричал все тот же смуглый и маслиновоглазый брюнет Ачильдий, лаковый красавец из бухарских евреев. – Явились наконец. Водка стынет!
И немедленно в какой раз пожаловался, что проработал здесь уже черт-те сколько лет и написал со всех фабрик объединения все, что возможно придумать про изготовление обуви. «Когда я вижу человека с ботинком не на ноге, а в руке, мне хочется вырвать этот ботинок и дубасить им его по башке, чтоб обулся и исчез вон!»
В дверь просунулся седеющий Гришка Иоффе и со своей ехидно-интеллигентской ухмылкой пересчитал бутылки.
– Можешь не считать, Григорий, тебе обрубиться хватит, – уверил маленький Витька Андреев и мотнул эспаньолкой.
– Ну так и пора начинать, не фиг остальным опаздывать.
Спичка немедленно отправился в раковинно-посудный закуток резать сыр и колбасу. Мы отковырнули пробки, развели первую по стаканам и подтянулись вокруг низкого стола для летучек, крытого исцарапанным красным пластиком.
– Не может быть!… – высоким молодым голосом сказала Оля Кустова (наша «культура», редактор «Детгиза» и «Лениздата», далее – везде), поерзала, умещаясь на стуле, нюхнула, вздохнула и зажмурилась.
Стаканы стукнули, звякнули, столкнулись.
– Ну что, за «Скороход», мальчики, – сказала тощая и уважительно сияющая мамка-Рита, и мы выпили.
В этот самый миг, разумеется, прихромал опаздывающий всегда и в любых ситуациях бородатый Бейдер.
– Блядь, они уже, конечно, пьют, – прогудел улыбчиво матюжник Бейдер и поставил «Столичную». Ногу он сломал на тренировке карате, и все ржали, что загипсована левая, рабочая, чем теперь писать будет?
– Совсем ты расслабился в своем Иерусалиме, – подколол фотошник Фрома, сдвигая козырьком назад неснимаемую капитанскую фуражку и щелкая камерой. – Здесь тебе не паршивый «Маарив», а единственная в мире ежедневная газета обувщиков. Как справедливо заметил посол Бовин, если что и погубит Израиль, так это раздолбайство евреев.
– Ты на себя в профиль давно не смотрел? – спросил Вовка, стуча ногой, как статуя Командора. – Ариец. Бердичевский самурай. А до Иерусалима еще дожить надо. Я лично собираюсь работать здесь. Это единственное место, где можно работать.
– Да сообрази ты наконец, Бейдерино, – сплюнул Саульский, – что вся наша работа здесь на хрен никому не нужна. Делали говенную обувь – и будут делать, хоть ты им «Анну Каренину» напиши.
– А куда ты с подводной лодки денешься? – хмыкнул Вовка, повертел луковицу, заправил в бороду и хрустнул…
– Да валить всем отсюда надо!
– Довалились уже, ступить некуда – везде сидят вот такие. А я хочу, чтоб прошло много лет, и вы все намотались по разным местам, а потом пришли в «Скороход», – сказал Бейдер. – Где я буду сидеть главным редактором.
– А меня ты куда денешь, Володя? – кротко спросила Рита.
– В министры печати, – цинично польстил он.
– Ну – намотались, – сказал Ачильдий.
– Ну – приехали, – сказал Саул.
– И я вас – возьму! – торжественно пообещал щедрый Бейдер.
– Возьми петуха за бейцы! – прыснул водкой толстый Спичка.
Мы все еще не обвыклись друг с другом, не обмялись. Глазам было странно. Бывшая когда-то целым залом редакционная комната стала маленькой и бездарно освещенной. Выпили по третьей реанимирующего напитка и закурили.
Совмещение настоящего и будущего, или, если иначе взглянуть, прошлого и настоящего, с повышением градуса пошло легче, естественней.
– Здесь расти дальше некуда. Бесперспективно, – пригорюнившись, поделился Гришка Иоффе и как бы сморгнул слабую слезу. Бескостно оползая в дерматиновом полукреслице, он сделался похож на маленького, поседевшего, домашнего и безвредного змей-горыныча. – Книгу издать невозможно. Издательства забиты на пять лет вперед. В Союз писателей не вступишь…
Писал он так себе. Все потупились. Вялый-то он был вялый, но в глубине немножко ядовитый.
– Гриша, – предостерег благодушный Куберский, – не делай глупостей. Ну, издашь ты в Магадане свою книжку детских стихов – и это стоит того, чтоб разводиться с Жанной? Трехкомнатный кооператив от «Скорохода» ты купил, в партию и в Союз журналистов вступил, зарплату получаешь, – живи спокойно!… Не дергайся.
Мы знали, что речи эти в пользу бедных. Гришка проторчал в своем Ягодном, зековской столице Колымы, пять лет: вернулся несолоно хлебавши, усох, опал, постарел, и теперь платит алименты и по выходным гуляет с выросшими детьми. Сам дурак. А жалко бедолагу.
Труднее всех было с Мишкой Зубковым. Мишка спился, опустился, не вылезал из депрессии – голливудский красавец, умница, талант, «Мистер филфак» все пять студенческих лет. Он блестяще писал, пел, как Карузо, играл на всем, что издает звуки, и и переводил со всех языков. Бабы падали штабелями. До времени он посеребрился, остригся коротко, надел очки, знал все ночные шалманы в городе, ходил в засаленной куртке, и в один гадкий петербургский вечер бросился на Финляндском вокзале под электричку. Зрелище было серьезное даже для штурмовой бригады «скорой», прилетевшей на «попал под поезд». Они вызвали транспорт из морга, и то, что осталось на рельсах, лопатой собрали в черный пластиковый мешок.
– Зубкович, – сказал Саульский, – да ты выглядишь еще лучше, чем раньше. В каком ты опять круизе набрал такой миллионерский загар?
До «Скорохода» Мишка два года плавал пассажирским помощником на «Лермонтове» и был любимцем публики и команды.
– На Южном кладбище, – в лучших традициях черного университетского юмора захохотал Мишка.
И все захохотали следом, а громче всех я, потому что в это время я уже жил в Эстонии, и Гришка Иоффе пытался задним числом сделать мне выговор по телефону, что я не приехал на Мишкины похороны. Хотя а) я не знал; б) гроб все равно не открывали; и церемония превратилась в крепкую помойку памяти товарища.
А вот сидит товарищ, и хоб хны. Хрен ли нам Колыма, хрен ли электричка.
Мишка мягко улыбнулся и налил себе пива.
– Не сдувай пену! – закричал Бейдер, и все снова загоготали.
Мы пили пиво у ларька на углу Воздухоплавательной, и Мишка не глядя сдунул пену на лицо вышагнувшего сзади мужика. Еле отмахались. Компанию мужика особенно оскорбило, что смешливый Бейдер просто зашелся в экстазе. Он как раз перед этим удачно заплел вежливую критическую гадость про Маринку Галко: про ее самомнение как насчет гениальных материалов, так и насчет неотразимой внешности, но яд еще не был излит.
– Вот пройдет лет двадцать, – принял Мишка кружку, – и красивой Маринка быть перестанет, а дурой так и останется. – И сдунул пену. И попал.
Грузинская княжна Маринка Галко, бывше-будущая Куберская, Токарева и Гусева, сидела напротив на диване и щурила мохнатые ресницы. Хлебом ее не корми – дай поохмурять ближнего: а потом самовлюбленно шлепнуть его по рукам, тянущимся ответно куда надо.
– Мудак ты, Мишаня, – сказала она. – Хотя все равно я тебя очень всегда любила. – Красивой она быть не перестала, что же касается ума, то давно защитила диссертацию по искусствоведению и очень удачно и счастливо успокоилась в браке с директором Пушкинского музея; пустячок, но тоже приятно.
– Ну ты крута, мать, стала, – пропыхтела Алка Зайцева, еще не гражданка глубоко независимой Эстонии и еще не Каллас. Алка была пышненькой в свои двадцать восемь, и в тридцать восемь, а в сорок восемь посуровела, постройнела, села на диету и успешно сидит на ней до сих пор, блюдя размеры. Она еще пила, еще курила и еще сумрачно прикидывала будущность: денег нет, родители старики, сын неврастеник, разведенный муж из тюремной школы переезжает в США, там у него несколько домов, изданная книга, слезы, седина и бесцельность. А у нее любящий муж, ставший большим писателем и бросивший пить, младшая дочь, сын стал доктором эстонской филологии, а сама главный редактор почти не существующего в природе, но все-таки журнала.
– Как живешь? – спросила она Вовку, не глядя на него.
Вовка с небрежным смыслом перекорежил бороду.