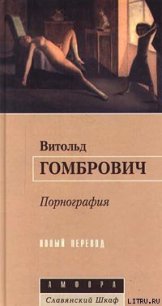Фердидурка - Гомбрович Витольд (читать полную версию книги TXT) 📗
И дальше спрошу я вас (дабы еще один глоток отпить из чаши части): разве – по вашему мнению – произведение, сконструированное по всем правилам, выражает целое, а не часть только? Ба! Разве любая форма не отбрасывание лишнего, разве композиция не ограничение, разве слово может передать что-нибудь кроме части действительности? Остальное – молчание. Наконец, мы создаем форму или она нас создает? Нам кажется, что это мы конструируем, – иллюзия, в равной мере конструкция конструирует нас. То, что ты написал, диктует тебе дальнейшее, произведение родится не в тебе, ты хотел написать одно, а написалось нечто совершенно иное. Части тяготеют к целому, каждая часть пробирается к целому тайком, стремится к законченности, ищет дополнения, требует недостающего ей по образу и подобию своему. Мысль наша вылавливает из бурного океана явлений какую-то часть, скажем ухо или ногу, и сразу же в начале сочинения нам лезет под перо ухо или нога, и потом уж мы не можем выпутаться из части, дописываем к ней продолжение, она нам навязывает все остальные члены. Мы вьемся вокруг части, словно плющ вокруг дуба, начало предопределяет конец, а конец – начало, середина же возникает между началом и концом. Абсолютная несостоятельность целого – вот отличие души человеческой. Что же нам тогда делать с такой частью, которая родилась не похожей на нас, словно тысяча страстных, огненных коней обрушились на ложе матери ребенка нашего, – ха, пожалуй, единственно ради спасения видимости отцовства мы должны, призвав на помощь все нравственные силы, уподобиться нашему творению, если оно не хочет уподобиться нам. Да, да, помню, знал некогда писателя, у которого в начале его литературной карьеры написалась героическая книга. Совершенно случайно на первой же строчке он ударил по героической клавише, хотя с тем же успехом мог взять скептическую или лирическую ноту, но первые фразы получились героические, вот и пришлось ему, заботясь о гармоничности конструкции, все усиливать и наращивать героизм до самой последней точки. И он до тех пор оттачивал, отглаживал, отделывал, перекраивал и приспосабливал начало к концу, конец к началу, пока не вышло из всего этого произведение живое и глубоко убедительное. Что же ему было делать со своим глубочайшим убеждением? Можно ли отпереться от глубочайшего убеждения? Разве серьезно относящийся к своему слову художник может признаться, что это просто написалось у него так, героически, вышло героически, и все тут, что его глубочайшее убеждение никак не его глубочайшее убеждение, а откуда-то извне налезло, залезло, прилезло, влезло? Исключено! Ибо такие мелочи, как налезло, написалось, вышло, залезло – чужды высшему культурному стилю, – самое большее, они могут стать суррогатом игриво легкомысленного и щеголеватого фельетона. Тщетно несчастный певец героизма стыдился и таился, пробовал отбояриться от части, часть, уцепившись за него, не хотела отпускать, пришлось ему прилаживаться к своей части. И до тех пор уподобливался он части, пока в конце литературной карьеры не уподобился совсем, и стал героем – заложником своего героизма. И только, как огня, избегал он своих приятелей времен возмужания, ибо те не могли надивиться целому, которое так хорошо сидело на части. И они ему кричали: – Эй, Болек! А помнишь этот ноготь… этот ноготь… Болек, Болек, Боленька, ноготь на зеленом лужку помнишь? Ноготь? Ноготь, Боленька, где?
Таковы принципиальные, основополагающие и философские причины, которые склонили меня к постройке сочинения на фундаменте отдельных частей, – я рассматриваю при этом сочинение, как часть сочинения, а человека как союз частей, тогда как все человечество я считаю мешаниной частей и кусков. Но если бы кто-нибудь сделал мне упрек: эта частичная концепция, по совести говоря, не представляет собой никакой концепции, а всего лишь вздор, издевка, насмешка над частями, а я вместо того, чтобы подчиниться жестким правилам и канонам искусства, пытаюсь поиздеваться над ними с помощью такой издевки, – я ответил бы, что да, именно, таковы как раз мои намерения. И, ей-Богу, я не поколеблюсь признать: я хочу уклониться столько же от вашего Искусства, господа, которого не могу вынести, сколько от вас самих… поскольку я не могу вынести и вас со всеми вашими концепциями, со всей вашей художественной позицией и со всем вашим художественным мирком.
Господа, существуют на земле профессиональные группы более или менее смешные, менее или более позорные, постыдные и оскорбительные – да и количество глупости не везде одно и то же. Так, к примеру, парикмахеры на первый взгляд более податливы глупости, чем сапожники. Но то, что творится в художественной среде мира, бьет все рекорды глупости и позора – причем до такой степени, что человек относительно порядочный и уравновешенный не может не склонить стыдом горящего чела перед этой ребяческой и претенциозной оргией. Ох, уж эти вдохновенные песнопения, которых никто не слушает! Ох, уж эти мудрствования знатоков и энтузиазм на концертах и поэтических вечерах, и обряды посвящения, оценки, дискуссии, и лица этих особ, когда они декламируют или слушают, вкупе торжественно разыгрывая мистерию красоты! В силу какого же болезненного противоречия все, что вы делаете или говорите, в этой именно сфере становится смешным? Когда в течение веков какую-нибудь профессиональную среду то и дело сводят судороги глупости, можно со всей определенностью сделать вывод, что концепции ее не соответствуют реальности, что она попросту пичкает себя фальшивыми концепциями. И ваши художественные концепции, вне всякого сомнения, достигли вершин концептуальной наивности; и если вы хотите знать, как и в каком смысле следовало бы их пересмотреть, так я вам могу это сказать без проволочек – надо, однако, чтобы вы навострили ушки.
О чем, собственно, страстно мечтает тот, кто в наше время почувствовал призвание к перу, кисти или кларнету? Он прежде всего жаждет быть художником. Жаждет творить Искусство. Грезит, что Красотой, Добром и Правдой будет насыщать себя и сограждан, хочет быть жрецом и пророком, жертвуя сокровищницу своего таланта страждущему человечеству. А также, возможно, он мечтает поставить талант свой на службу Идее и Народу. Какие возвышенные цели! Какие восхитительные намерения! Разве не такова была роль Шекспиров, Шопенов? Но рассудите, и тут вся загвоздка, вы же еще не Шопены и не Шекспиры – вы еще не реализовались полностью как художники и жрецы искусства – вы на нынешней ступени вашего развития в лучшем случае только полушекспиры и четвертьшопены (о, проклятые части!) – а потому ваша претенциозность обнажает лишь вашу убогую незначительность – и это похоже на то, как если бы вы захотели одним прыжком вскочить на пьедестал памятника, подвергая опасности свои драгоценные и чувствительные части тела.
Поверьте мне: существует разница между художником, который уже состоялся, и стаей полухудожников и четвертьпророков, которые еще только хотели бы состояться. И то, что к лицу художнику, уже обладающему собственным лицом, на вас смотрится по-иному. Но вы вместо того, чтобы создать для себя концепцию по росту, по мерке вашей действительности, рядитесь в чужие перья – вот потому вы и становитесь кандидатами, вечными неумехами, вечными троечниками, вы, слуги и эпигоны, почитатели и поклонники Искусства, которое не пускает вас дальше передней. Воистину, страшно смотреть, как вы стараетесь и как вам не удается, как всякий раз вам говорят, что еще не совсем, а вы снова лезете с новым произведением, как пытаетесь навязывать эти произведения, как спасаетесь кошмарно второсортными успехами, расточаете друг другу комплименты, устраиваете художественные вечерочки, водите за нос себя и окружающих все новыми и новыми поделками вашего неумения. Вы даже лишены радости сознавать, что то, что вы пишете и варганите, имеет хоть какое-то значение. Ибо все это, повторяю, только подражательство, все подсмотрено у мастеров – одна лишь скороспелая иллюзия, будто это уже чего-то стоит, будто это уже ценность. Положение ваше ложно, и, будучи ложным, оно неизбежно приносит горькие плоды – и в вашей среде уже расцветают взаимная неприязнь, пренебрежение, злословие, всякий презирает других и себя в придачу, вы братство самопрезрения – так что в конце концов ваше самопренебрежение убьет вас. Ибо на чем еще, в сущности, зиждется положение второсортного писателя, если не на всеохватном великом отпоре? Первый и безжалостный отпор дает ему рядовой читатель, который решительно не желает наслаждаться его произведениями. Второй и позорный отпор дает ему собственная его действительность, которую он не сумел выразить. А третий отпор и пинок, самые позорные изо всех, он получает от искусства, в которое он укрылся, но которое презирает его, как неумеху и недоросля. И это переполняет чашу позора. Тут уже начинается полная бездомность. Это доводит до того, что второстепенный становится объектом всеобщих насмешек, ибо попадает под перекрестный огонь отторжений. Воистину, чего ждать от человека, трижды получившего отпор, причем один другого позорнее? Разве отторгнутый таким образом человек не должен уехать, забиться в какой-нибудь угол, убраться с глаз долой? Разве ничтожество, выставляющее себя на всеобщее обозрение, жадное до почестей, может быть здоровым, и разве не должно оно вызывать у природы икоту?