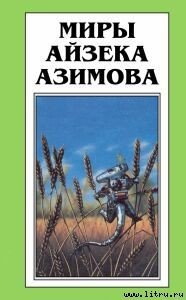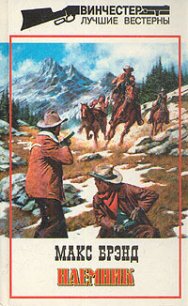Забвение - Зорин Леонид Генрихович (книги регистрация онлайн бесплатно TXT) 📗
Если бы мы все не довольствовались двумя-тремя строками в учебнике о тысячелетиях подлости, бешенства, безумия, мора, если б не прославляли убийц, не возводили сатрапам памятников, неужто продолжало б вертеться это кровавое колесо?
Мы претерпели так много горя и совершили так много зла, что, если бы помнили об этом, если бы видели свой путь таким, каким он действительно был, а не таким, каким он воспет, то превосходство над нашими пращурами стало б для нас не столь безусловным. Будем благодарны забвению, только оно и укрощает эту антропогенную ярость, стирает уродливые шрамы с изрубленного лика истории, смывает корявые письмена и позволяет каллиграфистам перебелять черновики. Оно отбрасывает, отсеивает, денно и нощно осуществляет Великий Естественный Отбор.
Я снова задумался о Ромине и о его прощальных стихах. Чем объяснить, что он назвал грань перехода в небытие «легкой»? Он хотел перехода? И для него этот переход был «избавлением от цели», которое он понимал как свободу? Неужто ему этот шаг был легок? Все, что я слышал и знал о Ромине, не свидетельствовало о том, что он веровал. И вот — вчитайтесь! — он уверяет, что «видит Бога слепота».
Надеяться, что моя слепота дарует такое же прозрение? Что я увижу не бездну, а Бога? И что за гранью перехода мне, как ему, откроется свет, что избавление от цели, как избавление от гордыни, вознаградит меня смирением и что смирение даст свободу?
Возможно, я ничего не увижу — ни бездны, ни Бога, ни тьмы, ни света. И все же… почему бы и мне не сохранить хоть тень надежды? Готовность забыть дорогого стоит — должно быть, мой дух готов и смириться. Так неужели моя слепота будет пустынна и незряча?
Если на всех поворотах пути я верил в судьбу и различал то, как она подает свой голос, я не был закрыт для диалога. Я не взывал, не просил о помощи, но я принимал ее сигналы и научился их понимать. Чувствовал, когда будет лучше остаться в тени, и еще чаще — точно толчок! — побуждение к действию: «Вперед, мой мальчик — на авансцену!». Я следовал ее тайным знакам, но если в облике личной судьбы ко мне являлась Высшая Сила, ей было ведомо: я не хочу посредника между собой и Ею, здесь не найдется места для третьего. Когда я думал об этом третьем, мне вспоминались тамплиеры — полувоители, полумонахи с их крестами наперевес. Сразу же приходили на ум религиозные контраверзы и религиозные войны.
Возможно, я был сам виноват. Я намечтал себе образ церкви — тихой, печальной и утешительной. Разве же не было ей завещано стать на земле приютом странника, пестовать связь меж мгновенным и вечным? Поэтому не мог я понять ни властной тяги к цензуре духа, ни женственной — к властям предержащим.
Было так ясно, что нет для нее опасности большей, чем эта близость, что удаленность ей лишь во благо, даже гонимой ей лучше быть, нежели официальной твердыней, но слишком велик для ее иерархии тайный соблазн стать вровень со светской.
Нет кельи, где бы скончал я дни свои. А хорошо бы найти такую. Тем более, общаться со мною все непосильней, а то ли будет! Едину быти — верно жити. Возможно, что путеводный свет и озарил бы мою темницу.
Но там, разумеется, не место «богооставленному человеку». Так назвала меня непреклонная Лидия Павловна Вельяминова, как многие бывшие протестанты, теперь приобщенная к благодати, но не умеющая прощать.
Как знать, возможно, это и к лучшему. Если б не наша новая встреча, было бы попросту невозможно проститься с несколькими часами, которые меня убедили в Божественном начале судьбы и в том, что жизнь моя удалась.
Этот магический лунный луч, падавший на лицо любимой, пряди, взъерошенные ветром, черемуховый девичий запах, ее подвенечная красота — все это сберегла не память, даже не кожа, а вечная боль, словно застрявшая в аорте.
Я охранял ее, как часовой, больше всего боясь исцелиться. Но пьеса сыграна, можно дать занавес. Богооставленный человек. Согласен. Но — лишь с этого дня.
Бог в помощь госпоже Вельяминовой. Она намучилась, настрадалась, она заслужила свой реванш. Но пусть присутствует в этом мире отдельно от Лидии и от меня. Вместе со своими очками, короткой стрижкой, обильными бедрами.
На месте зияющей воронки, где прежде помещался мой разум, что-то обязано удержаться. Какое-то звенышко из цепи. Чуть слышный оклик былой тоски и все еще неукрощенной надежды.
Должно остаться то полнолуние. И то, как старый морщинистый дуб заглядывает в мое окно. И то, как похожи фонари на опрокинутые стаканы под перевернутыми блюдцами. И золотистое свечение, струящееся из глаз подруги. Одна была ночь, но ради нее стоило родиться на свет.
Ветер шевелит ее волосы. Мне почему-то приходит на ум, что, может быть, следует перехватить их синими бантами? Тут же я думаю: ведь неспроста эти синие банты? И неспроста этот синий цвет. Цвет лета. Цвет моря. Цвет прохлады. Откуда они ко мне явились?
Не знаю. Я знаю только одно: есть ли эта Высшая Сила, нет ли ее, я буду молиться, чтобы осталась во мне, со мною, дарованная мне ею боль. И пусть она меня провожает до пограничной прощальной черты, чтоб напоследок блеснуть во тьме вспышкой золотистого света.
13
Прежде всего ты отмечаешь, что жизнь дробится на фрагменты. Мало-помалу вырабатывается эссеистический взгляд на мир. Затем — еще один поворот.
Жизнь перемещается в сны. В них она теперь происходит, они ее и обозначают. Мне кажется, я в них замурован.
Чаще всего они живописны и радостны. Почти неизменно связаны с первыми впечатлениями.
То в первый раз попадаешь в театр. Приводят, усаживают в кресло с алыми бархатными подлокотниками. Медленно гаснет люстра над залом, таинственный свет озаряет сцену, и начинается иллюзия. С тех пор понимаешь: иллюзия — праздник.
То обнаруживаешь себя в консерватории. В фойе теснятся взволнованные студентки. Вот зал уже полон, вот на эстраду вплывают величественные оркестранты. Они настраивают инструменты. Их разнобой не раздражает, ибо предвещает гармонию. Она молитвенно возникает в маршальском образе дирижера — жезл трепещет в его руке, концертно развеваются фалды.
То в многоцветный закатный час, когда церковное небо чуть тронуто нежнейшим марганцевым отливом, проходишь садом, еще клубящимся щедрою августовской листвой, и видишь: из зубчатого облака, которое смотрится продолжением древесной кроны, уходит, уносится в пленительно-синюю вышину солнечного вечернего неба след реактивного самолета. След так закончен в своей прямизне, при этом так ослепительно-ярок, что отвести от него свой взгляд немыслимо — так бы глядел на него все остающееся мне время. Этот стремительно улетающий в ясную синь наконечник копья словно пронизан своим сиянием, и от него исходит поистине непостижимое совершенство, его ничему нельзя уподобить. Как тут поверить, что это чудо вполне земного происхождения? Но сразу забываешь об этом — еле заметная темная точка, таявшая, словно минута, не вызывала ассоциаций ни с двигателями, ни с рулевым управлением.
След, оставляемый на Земле, не так очевиден, но он порою бывает длительней и ощутимей. Мне-то на это трудно рассчитывать — срок мой окончится вместе со мной. Даже если я еще буду физически существовать на свете.
Но ведь и тут есть свои варианты. Некий сердобольный свидетель только вздохнет: «Ах, бедный малый — совсем уже превратился в травку…». Меж тем, это не худший исход, коли такую метаморфозу сравнить с превращением Мопассана. А уж потом, когда упокоишься, стать летнею полевой травой — и вовсе завидная судьба. Стоит представить себе, как по ней в полдень ступает босая девушка. Я приникаю дрожащим стеблем к щиколоткам, прогретым солнцем, дотягиваюсь до круглых колен.
Однажды была дана земля с теплом и светом, с бамбуковой рощей, с ветром, долетающим с моря, пахнущим свежестью и солью. Мне нравилась девочка с синими бантиками, с бамбуковой палкой, которой она старательно подпирала спину. Как ее звали? Впрочем, неважно.