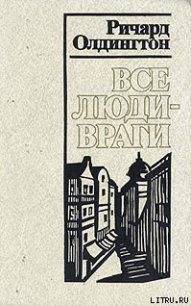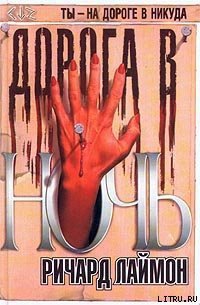Смерть героя - Олдингтон Ричард (книга регистрации .txt) 📗
3
Изабелла и Джордж Огест приводят меня в такое уныние, что я жажду поскорей от них отделаться. Но ведь не зная родителей, нельзя понять и самого Джорджа. И потом, в чете Уинтерборнов-старших есть для меня даже какая-то притягательная сила, — такую они вызывают ненависть и презрение. Я силюсь понять, откуда такая беспросветная тупость и ограниченность? Почему они даже не пытались вырваться из этой лжи и обмана? Почему нимало не стремились стать самими собой? Да, разумеется, наши великодушные потомки будут задавать себе те же вопросы относительно нас; но должны же они все-таки увидеть, что мы-то боролись, мы воевали с ложью и грязью жизни, с ветхими, истертыми прописями, как воевал и Джордж-младший. Быть может, Изабелла и пыталась сопротивляться, но сила инерции и неудержимая злость взяли верх. Быть может, двадцать два любовника и болтовня об агностицизме и социализме (в которых она отродясь и до старости ровно ничего не смыслила) были для Изабеллы своего рода протестом. Но ее окончательно сразили причины экономические — причины экономические да еще ребенок. Говорите что хотите, но бедность и ребенок в любой женщине подавят волю к самоутверждению и наиболее полному развитию своей личности, — а если не подавят, то извратят. Они озлобили Изабеллу, исказили ее душу. Что до Джорджа Огеста — сомневаюсь, чтобы в нем оставались воля и стремление к чему бы то ни было, — разве только стремление жить недурно. Если он и достиг чего-то в жизни, то лишь потому, что этого хотела и к этому вынуждала его Изабелла. В сущности, он был просто дрянь. А так как Изабелла была невежественна, упряма, непомерно тщеславна, а нежные заботы дражайшей матушки еще и озлобили и ожесточили ее, она тоже стала дрянью по милости Джорджа Огеста. Однако я куда больше сочувствую Изабелле, чем Джорджу Огесту. В ней когда-то было что-то человеческое. А Джордж Огест и не был никогда человеком, он просто лодырь, нехищная разновидность жука-богомола, пустое место, нуль, который становится величиной, лишь если рядом стоит какая-то другая цифра.
Когда Изабелла поправилась настолько, что могла уже выдержать переезд, — а может быть, немного раньше, — они, уехавшие вдвоем, возвратились домой втроем. Между ними появилось еще одно звено — не столько связующее, сколько разделяющее. Они стали «семьей», извечным треугольником отец-мать-ребенок, — а это сочетание гораздо более сложное и неприятное, в нем гораздо труднее разобраться, и оно чревато куда большими бедами, чем пресловутый треугольник муж-жена-любовник. После девяти месяцев близости Изабелла и Джордж Огест только-только начали привыкать друг к другу и к любви, как возникло это новое осложнение. Чутье подсказывало Изабелле, что к нему тоже надо как-то привыкать, применяться, а благодаря ей и Джордж Огест смутно заподозрил, что в их жизни что-то меняется. Итак, он принялся усиленно читать молитвы и всю дорогу от Южного побережья до Шеффилда внушал Изабелле, что семейству следует жить в любви и согласии, что каждый должен помогать другому нести бремя забот, что у них есть Ах-любовь, но им нужно обрести еще Терпение и Снисходительность. Не хотел бы я — боже упаси! — оказаться на месте Изабеллы, но я был бы не прочь минут пять поговорить за нее с Джорджем Огестом и выложить ему все, что я думаю, в ответ на это его слащаво-миротворческое, непроходимо-дурацкое лицемерие.
Итак, они возвратились втроем, и тут все снова пошли вздыхать, и пускать слезу, и читать молитвы, и просить бога наставить их на путь истинный, и благословлять ничего не понимающего Джорджа (он был еще слишком мал и не мог показать им кукиш, — за него это сделаем мы, его посмертные крестные отцы и матери). Горькое разочарование в супружеской жизни, когда пошли прахом все ее иллюзии и честолюбивые мечты, и отменное здоровье при совершенной неразвитости умственной и духовной сделали Изабеллу превосходной матерью. Она и впрямь полюбила жалкий, крохотный кусочек мяса, зачатый в горе и разочаровании, в номере скучной гостиницы, в скучном городишке, на скучном Южном побережье скучной страны Англии. Она щедро изливала на младенца свою любовь и заботу. Когда она кормила маленького Джорджа и он теребил ее грудь, она испытывала наслаждение несравнимо более острое и утонченное, чем от неуклюжих ласк Джорджа Огеста. Она была точно самка зверя с детенышем. Джордж Огест мог сколько угодно бахвалиться перед своим добрейшим папашей, будто он «готов сражаться, как тигр, за свою дорогую Изабеллу», — а вот Изабелла и в самом деле готова была драться — и дралась — за своего малыша, как норовистая, бодливая, трогательная и безмозглая корова. Едва ли можно считать это достижением, но она спасла маленькому Джорджу жизнь — спасла его для немецкого пулемета.
На время в закопченном домишке в Шеффилде воцарился мир: Изабелла явно была еще очень слаба, и, как ни говорите, появление первого внука — немаловажное событие. Добрейший папаша был в восторге от маленького Джорджа. Он купил пять дюжин портвейна, чтобы сохранить их до совершеннолетия внука, и тут же начал полегоньку к ним прикладываться, «чтобы проверить, хорош ли букет». Он подарил Джорджу Огесту пятьдесят фунтов, которых у него не было. И каждый вечер, когда Изабелла укладывала малыша спать, дед со всей торжественностью дарил ему на прощанье свое благословение.
— Я знаю, бог благословит его! — внушительно произносил добрейший папаша. — Бог благословит всех моих детей и всех моих потомков!
Можно было подумать, что он — сам патриарх Авраам или личный советник господа бога; впрочем, сам он, наверно, думал, что так оно и есть.
Даже дражайшая матушка на время попритихла. «Младенец укажет им путь», 71 — ядовито цитировала она; и Джордж Огест, вдохновясь этими святыми словами, сочинил еще одну диссидентскую брошюрку на тему о любви и согласии в семейной жизни.
Первые четыре года своей жизни Джордж провел среди вечных перебранок, бестолковщины и скаредности, — всего этого он, конечно, не сознавал, а для того чтобы измерить, насколько от этого пострадало его подсознание, понадобился бы более опытный психолог, чем я. Могу себе представить, что влияние дражайшей матушки и добрейшего папаши вкупе с папой и мамой Хартли, а также и самих Изабеллы и Джорджа Огеста оказалось тяжкой гирей на его ногах, когда он впервые вышел на беговую дорожку жизни. Я бы сказал, что у Джорджа в этом забеге не было ни малейшей надежды завоевать приз, и ставить на него пришлось бы разве что семь против ста. Но мое дело — как можно добросовестнее излагать события, а читатель пускай сам делает выводы и подсчитывает все «за» и «против».