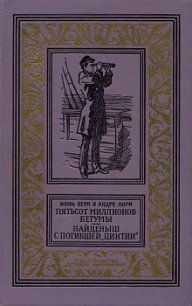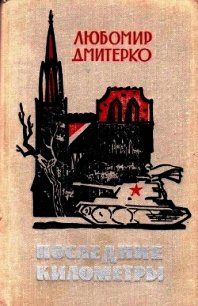Последние четверть часа (Роман) - Стиль Андре (библиотека книг бесплатно без регистрации TXT) 📗
Женщина утвердительно кивает. Она кивает снова, когда смотрит на ручную тележку, на которую ей пальцем показывает Клементина.
Может быть, она знает кого-нибудь, кто говорит по-французски?
Женщина показывает жестами, что не знает.
— А здесь? — спрашивает Клементина, показывая на соседнюю дверь.
Она не знает.
Клементина стучит в эту дверь. Выходит молодая красивая женщина с выразительным лицом и блестящими глазами.
— Ну, говори лучше ты, — шепчет Клементина Сержу. — Пусть это хоть будет на чистом французском языке… может быть, так мы легче договоримся…
Молодая женщина улыбается.
По-французски? Она говорит плохо, но все понимает.
Погорельцы? Она широко распахивает дверь; в задней комнате живет семья, которую она приютила.
— Можно войти?
Алжирка пожимает плечами, словно говоря: ну, если вам это нужно…
Серж пытается удержать жену за локоть, может быть, их присутствие стеснит этих людей… Но она уже вошла, здоровается и пускается в объяснения. Две другие женщины, старая и молодая, стоят и слушают, словно понимают, особенно молодая. Они даже ответили на приветствие. Правда, это ровно ничего не доказывает.
— Одежда! Для детей!.. Пожар, огонь!..
И тут же Клементина ловит себя на мысли: ты говоришь с ними на ломаном языке, думаешь, так они лучше тебя поймут, а ведь это нехорошо…
Она исправляет свою ошибку:
— Вы меня поняли?
Она выделяет слово «поняли».
— …Хорошо поняли?
Женщины усиленно кивают головой, да, да, чтобы заверить ее окончательно. Что тут еще придумаешь?
Серж снимает ящик с тележки. Они оставят его здесь, перед домом.
— Понятно? На всех! Разделить!
Да, да, конечно.
Если бы не тележка, которую надо толкать, у Сержа и Клементины было бы такое ощущение, словно они уходят, пятясь задом, точно виноватые. Женщины по-прежнему стоят у своих дверей, даже та, к которой они постучались сначала. Но другая, молодая и красивая, машет им издали рукой и улыбается. А в остальных бараках, одинаковых, черно-серых, так и не открылись двери и занавески на окнах даже не шелохнулись.
Ничто не шевельнулось и в ящике. Ни вечером, ни ночью.
Детская одежда так же лежит в нем, как ее аккуратно уложила бездетная мать Клементина.
В этом первой убедилась Одетта Байе, молоденькая вдова, которая живет по другую сторону шоссе. Она дала детский розовый лифчик и белое шерстяное пальтишко с капюшоном, которые и послужить-то почти не успели, как это обычно бывает с одеждой малышей. Дочери ее пошел шестой год, вторую в своем вдовьем положении она не ждет. Даже если когда-нибудь ей придется еще раз выйти замуж… Ей было жаль расстаться с этими почти новыми, но бесполезными вещами только из-за воспоминаний, с которыми они были связаны… Их подарила ей свекровь. Жерар сам принес их в родильный дом и положил к ней на постель в этих же коробках, правда тогда вещи были переложены тонкой бумагой и перевязаны шелковой лентой. Жерар гордился материнской щедростью — не одна вещь, а целых две, и главное, купленные, а не домашней вязки… Для него все было праздником. Шесть месяцев спустя его не стало.
На следующее утро пошел дождь. Он шел весь день и всю ночь, так же настойчиво, как ходили из дома в дом Серж и Клементина накануне.
Немцы, по крайней мере…
У каждого так и стоит перед глазами отвергнутый ящик с «их» одеждой, мокнущей под дождем. Одетта видит его из своего окна, стоя с девочкой на руках.
Идет дождь.
Об этом говорят во всех домах от шоссе до самого предместья. Объяснять нечего… Комментарии, как сказал бы Марсель, излишни. И так все ясно.
Года два назад тоже горело, но смотреть на этот огонь было даже приятно.
Такие вещи забываешь!.. И вдруг они искрой вспыхивают в памяти.
В тот год Комитету удалось добиться передачи одного из трех новых домов завода, за клубом, двум алжирским семьям, одной семье первый этаж, другой — второй. Барак, где они жили до этого, грозил вот-вот обвалиться… Два других дома достались Норберу и Нелло Лоренти в награду за его изобретение.
Когда переезжал тот алжирец, который вселялся на второй этаж, то разыгрался прямо фильм с приключениями!.. Он притащил два соломенных тюфяка, один побольше, на котором спал он сам с женой, а другой поменьше, детский. Он положил оба тюфяка на землю перед домом на углу площади. У него было еще два чемодана — все его имущество, если не считать старого ящика с посудой, портретов и горшка с геранью. Он открыл оба чемодана и высыпал содержимое на тюфяки. А затем он поджег всю кучу.
Сообщники…
Куча загоралась медленно, больше дымила, чем горела, к счастью, ветер отгонял гарь к Понпон-Финет. А в это время алжирец схватил свой ящик и понес его, прижимая к животу, взгромоздив сверху портрет брата и горшок с геранью, и с королевским достоинством вошел в свое новое жилище; за ним следовала его жена и оба мальчика. Потом с улицы увидели, как он распахнул широкое окно в новой квартире, где еще пахло свежим деревом и опилками, и стал сверху смотреть на площадь, на завод и на всю округу.
Когда через несколько часов огонь потух, он аккуратно подмел золу, собрал все на большой лист упаковочной бумаги и отнес на свалку.
На следующий день он купил детский тюфяк. Дней десять спустя, после получки, он купил еще один, большой. Когда он нес домой детский серый в полоску тюфяк, даже не запакованный в бумагу, он сказал мимоходом Норберу, который нежился на солнце возле своей двери:
— Вот теперь можно и новое купить!
Понемногу все забывается. Однако что-то от этого костра на углу площади сохранилось в памяти соседей. В памяти тех, кто проходит мимо, кто встречает алжирца, его жену, детей…
Вспышка памяти освещает еще один пожар. Впрочем, тут не было ничего особенного… Притом это было так давно… Сколько же прошло, лет десять?.. Шарлемань еще ездил тогда на своем маленьком мотоцикле, он возвращался темной ночью с собрания в отдаленной деревне. И вдруг сверху, со склона, он увидел языки пламени посреди жнивья, огонь одиноко полыхал в ночи. Страшно было видеть огонь без людей… ведь огонь редко бывает один… Обычно он собирает около себя много народу, люди греются, либо заставляют его служить себе, либо воюют с ним. Но тогда, безлюдной ночью, Шарлемань оказался наедине с огнем. Не удержавшись, Шарлемань притормозил на минуту и, не сходя с мотоцикла, смотрел с дороги на пламя, дело было уже за полночь…
Он помнит, как, когда он был мальчишкой, жгли ботву в поле после сбора картошки; ее собрали в кучу и подожгли, а потом пекли в золе картошку… Никогда больше не казалась она ему такой вкусной… Должно быть оттого, что она пеклась в костре из своей же ботвы… пф-ф, пф-ф… шипели картофелины, когда их, точно прицелившись, швыряли прямо в середину кучи еще багровой золы…
— Пф-ф! Пф-ф!
Вспоминается и еще один случай. Смешной и вместе с тем отвратительный, впрочем, довольно пустячный…
«Бабушки»!.. Прежде на масленицу, когда ходили ряженые, некоторые франтили, надевали домино с крупными пуговицами или белый балахон Пьеро и узкую полумаску, за которой легко было узнать человека… Но были и другие «бабушки»… Эти напяливали на себя мешковину, старые черные кофты, капоры, солдатские шинели, сабо и уродливые картонные маски. Они старательно прятали все — волосы, рот, часто даже руки. В них словно сам черт вселялся. Они нарочно лезли на скандал. Когда они вваливались в кабачки, все шарахались, потому что от таких добра не жди, того и гляди затеют драку. Они шли танцевать только для того, чтобы распихивать других танцующих, а если и пели, то лишь ради того, чтобы перекричать остальных.
Немцы.
Однажды поздно вечером здесь, у Занта, за тремя столиками шла картежная игра, места в кафе больше почти не оставалось. У печки сидел одинокий бедный старик по прозвищу Швейцарец, предмет частых шуток. После двух-трех конов он задремал, протянув ноги к очагу, как обычно по воскресеньям, он ничего не пил, кроме рюмки можжевеловой настойки. Здесь все давно привыкли к нему и к его сну, рядом с ним можно было шуметь сколько угодно… Один глаз Швейцарца ничего не видел — след минувшей войны. Он всегда носил очки в железной оправе и под правое стекло подкладывал клочок ваты. По воскресеньям и по праздникам он менял вату. Под ней, открытый или закрытый, постоянно гноился невидящий глаз. Из очага торчали длинные лучинки, которыми раскуривали трубку. И вот один из «бабушек» взял лучину и подпалил вату под очками Швейцарца.