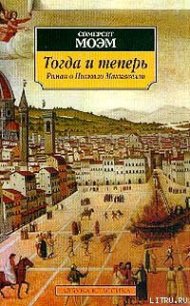Бремя страстей человеческих - Моэм Уильям Сомерсет (книги без сокращений txt) 📗
Ему хотелось заставить их почувствовать, что они совершают первый важный сознательный шаг в своей жизни; он пытался проникнуть в их души, мечтал внушить им свою собственную пламенную веру. Несмотря на робость Филипа, он чувствовал, что в нем может загореться такая же страстная вера, как у него. Ему казалось, что в мальчике сильно религиозное начало. Как-то раз он неожиданно отвлекся от предмета их беседы.
— А ты задумывался над тем, кем ты будешь, когда вырастешь? — спросил он.
— Дядя хочет, чтобы я стал священником, — сказал Филип.
— А ты сам?
Филип отвел глаза. Ему стыдно было в этом сознаться, но он считал себя недостойным.
— Никакая другая жизнь не принесет тебе столько радости, — продолжал директор. — Хотел бы я, чтобы ты это понял. Богу может служить всякий, но мы, духовенство, ближе к нему, чем другие. Я не хочу тебя понуждать, но, если примешь такое решение — вот тут, сию же минуту, — ты сразу же испытаешь блаженство, и это чувство уже никогда тебя не покинет.
Филип ничего не ответил, но директор увидел по глазам мальчика, что слова его упали на благодатную почву.
— Если ты будешь прилежно работать и дальше, ты скоро станешь лучшим учеником и можешь рассчитывать на стипендию по окончании школы. У тебя есть собственные средства?
— Дядя говорит, что, когда мне исполнится двадцать один год, у меня будет ежегодно сто фунтов.
— Да ты богат. У меня не было ни гроша.
Директор помедлил; он машинально чертил карандашом на лежавшей перед ним промокательной бумаге; потом он продолжил:
— Боюсь, что у тебя не будет большого выбора. Тебе ведь не годится профессия, требующая физического напряжения.
Как и всегда, когда заходила речь о его хромоте, Филип покраснел до корней волос. Мистер Перкинс глядел на него в раздумье.
— А ты не слишком ли чувствителен к своему несчастью? Тебе ни разу не приходило в голову поблагодарить за него Бога?
Филип быстро взглянул на него. Губы его сжались. Он вспомнил, как месяцами, веря тому, что ему говорили, молил Бога об исцелении, — ведь исцелил же он прокаженного и сделал слепого зрячим.
— Пока дух твой мятежен, ты будешь испытывать лишь чувство стыда. Но, если ты поймешь, что отмечен господом, что крест твой возложен на тебя только потому, что у тебя сильные плечи, — тогда твое увечье станет для тебя источником не горести, а утешения.
Он увидел, что этот разговор тяготит мальчика, и отпустил его.
Но Филип долго думал о том, что сказал ему директор; мысль о предстоящей церемонии наполняла его мистическим восторгом. Дух его, казалось, освободился от плотских уз, и он вступает в новую жизнь. Он стремился к совершенству со всей страстностью своей души. Ему хотелось целиком посвятить себя служению Богу, и он твердо решил принять духовный сан. Когда великий день настал, Филип едва владел собой от страха и радости: он был взволнован до глубины души всеми приготовлениями, книгами, которые прочел, и, главное, тем, что так пылко внушал ему директор. Мучила его только одна мысль. Он знал, что ему на глазах у всех придется пройти через алтарь, и не только вся школа, собранная на богослужение, но и посторонние — прихожане и родители тех мальчиков, которые вместе с ним впервые шли к причастию, — увидят, что он хромой. Но, когда наступила решающая минута, Филип вдруг почувствовал, что с радостью примет любое унижение; ковыляя по проходу, такой маленький и ничтожный под этими величественными сводами, он в мыслях приносил свое уродство на алтарь Всевышнего, который его возлюбил.
18
Однако Филип не мог долго жить в разреженном воздухе горных вершин. То, что случилось с ним, когда он впервые был охвачен религиозным экстазом, повторилось снова. Именно потому, что он так остро ощущал всю красоту христианства, а сердце пылало жаждой самопожертвования, силы его не выдержали такого духовного подъема. Неистовая страсть изнурила и опустошила его душу. Он стал забывать, что находится в присутствии Бога, недавно всесильного и вездесущего, а религиозные обряды, которые он все еще аккуратно выполнял, стали пустой формальностью. Сперва он упрекал себя за это новое отступничество и страх перед геенной огненной доводил его до исступления, но пламенная вера умерла и постепенно им завладели совсем другие интересы.
Друзей у Филипа было мало. Привычка к чтению отдаляла его от людей; одиночество стало для него такой потребностью, что, побывав некоторое время в обществе сверстников, он чувствовал усталость и скуку. Он гордился знаниями, почерпнутыми из множества книг, мысль его не дремала, и он не умел скрывать презрения к глупости своих товарищей. А те обвиняли его в зазнайстве; поскольку его превосходство проявлялось только в таких областях, которые казались им никому не нужными, они ядовито спрашивали, чего это он задирает нос. У Филипа проснулось чувство юмора, и он обнаружил, что может съязвить, задеть за живое собеседника; он говорил колкости, поскольку его это забавляло, не задумываясь о том, как больно они ранят, и очень обижался, когда видел, что его жертвы платят ему активной неприязнью. Унижения, которым он подвергался, когда пришел в школу, научили его чуждаться своих однокашников; от этого он уже никогда не мог отвыкнуть и так и остался замкнутым и молчаливым. Но, хотя он и делал все, чтобы оттолкнуть от себя товарищей, он всей душой хотел привлечь к себе их сердца, мечтал о популярности, которая другим дается легко. Такими счастливчиками Филип втихомолку восхищался, и, хотя охотно над ними подшучивал и отпускал в их адрес язвительные замечания, он отдал бы все на свете, чтобы быть на их месте. Впрочем, он с радостью поменялся бы местами с самым тупым учеником в школе, лишь бы у него были здоровые ноги. У Филипа возникла странная привычка, Он представлял себя одним из тех мальчиков, которые ему особенно нравились; он как бы переселял свою душу в чужое тело, говорил чужим голосом и смеялся чужим смехом; воображал, что делает все то, что в действительности делал другой. Фантазия его работала так живо, что на какой-то миг он и в самом деле переставал быть самим собой. Таким способом он отвоевывал себе минуты воображаемого счастья.
В начале рождественского триместра, сразу же после конфирмации, Филипа перевели в другую комнату для занятий. Одного из мальчиков, сидевших с ним рядом, звали Роз. Он учился в одном классе с Филипом, и тот всегда смотрел на него с завистливым восхищением. Никто не назвал бы его красивым: ширококостый и большерукий, он был неуклюж и обещал стать очень высоким, но у него были прелестные глаза и, когда он смеялся (а смеялся он беспрестанно), вокруг них появлялись забавные морщинки. Он не был ни умен и ни глуп, но занимался неплохо, особенно охотно — спортом. Любимец учителей и учеников, он в свою очередь относился одинаково хорошо ко всем.
Перейдя в новую комнату, Филип поневоле заметил, что другие ученики, занимавшиеся тут уже скоро год, встретили его с прохладцей. Он нервничал, чувствуя себя нежеланным гостем, но уже научился скрывать свой чувства, и мальчики сочли его тихоней и бирюком. С Розом Филип был особенно скрытен и немногословен — он, как и другие, не мог не поддаться его обаянию. То ли потому, что Роз, сам того не сознавая, любил привлекать к себе людей, то ли просто по доброте сердечной, но он втянул Филипа в свою компанию. Как-то раз он неожиданно предложил Филипу пройтись с ним на футбольное поле. Филип вспыхнул.
— Я не могу так быстро ходить, как ты, — сказал он.
— Ерунда. Пошли.
Когда они собрались идти, какой-то мальчик просунул в комнату голову и позвал Роза погулять.
— Не могу, — ответил тот. — Я уже обещал Кэри.
— Не обращай на меня внимания, — поспешно сказал Филип. — Иди, я не возражаю.
— Ерунда, — сказал Роз.
Он посмотрел на Филипа своим добродушным взглядом и рассмеялся. Филип почувствовал, как у него дрогнуло сердце.
Дружба их росла с той быстротой, с какой она растет только у мальчишек, и скоро они стали неразлучны. Их товарищи удивлялись этой внезапной близости и спрашивали Роза, что нашел он в Филипе.