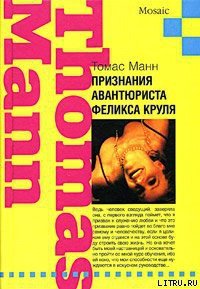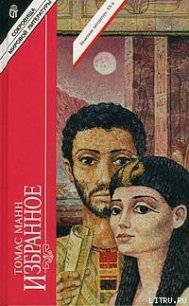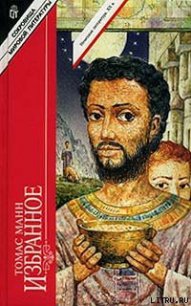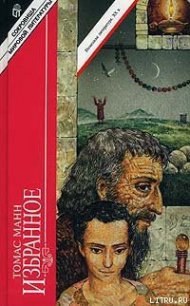Избранник - Манн Томас (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений TXT) 📗
— Ступай с богом! — сказал аббат и стал снова читать дощечку.
Печальник
Мальчик Григорс знать не знал обо всех этих делах и заботах, да и о себе и о своих обстоятельствах он тоже знал лишь то немногое, что видел собственными глазами. Он рос среди детей рыбака, которые считали его своим братом, как и он их — своими братьями и сестрами, да и у жителей острова, если это их вообще занимало, он слыл младшим сыном Виглафа и Магауты, ибо в выдумке аббата, будто дитя привезено с Санкт-Альдгельма, от хворой дочери Этельвульфа, не было вовсе нужды или, если какая нужда и была, то сведенья эти быстро изгладились из памяти островитян. Он носил такую же грубую одежду, как его братья, и в три года начал говорить так же, как они и их родители — «What shall быти овамо» и «Мне оно ни к чему»; разве что от аббата, его крестного отца, который часто их навещал, он научился вставлять в свою речь словечко «credemi», так что, бывало, скажет: «Флан, credemi, have not stolen [92] у тебя твоих мячиков», отчего братья, а в конце концов и родители, на первых порах в шутку, а затем и не в шутку, привыкли называть его «Кредеми». И он откликался на это имя.
Кредеми-Григорс был хорош собою. Казалось, что губы его не созданы для грубой мужицкой речи, слетавшей с них, его мягкие каштановые волосы не походили на свалявшиеся соломенные вихры сорванцов из рыбачьей хижины, а его улыбка — на их ужимки, и ничего общего с их ревом не имели его тихие слезы, когда он плакал от боли. В пять лет он сильно вытянулся и приобрел стройность, все больше и больше отличаясь от местных детей и сложением, и вылепкой рук и ног, осанкою, и походкой. Миловидный, с серьезным, приятным лицом и строго очерченным ртом, он уже тогда часто склонял к плечу свою продолговатую головку и, держась рукой за другое плечо, скосив и потупив глаза, мечтательно куда-то глядел из-под темных ресниц.
В шесть лет он перекочевал в монастырь; аббат нашел, что время приспело; ибо этот добрый человек спешил научить мальчика грамоте. Он отнюдь еще не собирался ознакомить ребенка с пресловутой дощечкой, но ему не терпелось увериться, что уже скоро тот будет способен ее прочитать. Расставанье с родными, по-видимому, не явилось особым событием ни для них, ни для Григорса. Ведь путь ему предстоял недалекий: от отцовской хижины к монахам рукой подать. И все же разлука была глубже, перемена в его жизни значительнее, чем думалось обеим сторонам при этом безгорестном прощании, и хотя он мог общаться с семьею сколько угодно, пропасть между ними от месяца к месяцу становилась все шире и шире, так что родные по большей части молчали, когда он захаживал к ним.
Он был теперь монастырским школяром, заменил свою пестревшую заплатами рубаху подобием стихаря, ровно подстригая волосы на затылке, отпустил их в длину над ушами и содержал в опрятности руки и ноги. Читать и писать он с великою быстротой научился у патера Петра-и-Павла, незлобивого брата, который, как ученый и поэт, именовался Гальфрид Монмутский и был попечителем и наставником пяти-шести воспитанников «Agonia Dei», ночевавших вместе с Григорсом в сводчатой спальне. Они превосходили его годами и уже знали грамоту, когда он к ним присоединился; но вскоре он сравнялся с ними в умении владеть грифелем и пером, а затем, к радости Петра-и-Павла, решительно опередил их в малых сциенциях, художествах словесности, счета и пения, ибо мальчики также певали латинские величанья, которые сочинял и сопровождал игрою на лютне упомянутый брат. Григорс тоже обучился игре на лютне, а равно и латыни.
Его речь стала чиста, как его руки и ноги, и вскоре он при всем желании, совсем не из высокомерия, не мог говорить грубым мужицким языком. Когда по восьмому и десятому году он приходил в гости к поселянам, он из вежливости старался употреблять их слова, но таковые звучали в его устах неестественно и были ему не к лицу, так что все только морщились: он — от стыда, а они — от злости, ибо им казалось, что он над ними глумится. С особенной неприязнью, искажая в гримасе толстые губы и даже сжимая кулаки, взирал на него Флан, его молочный брат, малый с шарообразной головой на короткой шее и такими же круглыми, похожими на лущеные каштаны глазами.
Это причиняло Григорсу боль, ибо на уме у него не было ничего недоброго, и если он все же несколько зазнавался, то совершенно непроизвольно. Успехи его были отменны и доставляли радость Петру-и-Павлу, а также другим братьям, его обучавшим, и аббат, проверяя знания крестника, только диву давался. В одиннадцать лет он был отличный грамматикус, а в последующие годы разумение его настолько окрепло, что и divinitas [93] стала ему вполне понятна. Это наука о божестве. Он читал свиток за свитком, и, что бы ему ни преподавали, он быстро во все вникал, схватывал самую суть и сразу овладевал предметом. В пятнадцать и шестнадцать лет он слушал de legibus, науку, трактующую о законах и требующую весьма ясного ума. Молодой Кредеми усваивал ее играючи и вскоре сделался таким законником, каких поискать надо. Замечу, однако, и притом с полной уверенностью в своей правоте, что все эти знания он приобретал без особого рвения. Добавлю также, хотя слова мои, может быть, прозвучат здесь загадочно, что если причиной отчуждения его от родной хижины и послужила изысканная ученость, то существовали еще и другие вещи, чувства и мысли, которые подчас даже отбивали у него вкус к монастырской науке и книгам, и ему втайне казалось, будто он не только отличается породой и складом от своих кровных, но по сути не находит себе места и среди монахов и школяров, будто не по нем его платье, его званье, все-его бытие, где молитвы сменяются корпеньем над книгами, будто он здесь такой же чужой, как и там.
Было ли это высокомерием или греховным чванством? Но если он не гордился успехами в ученье, не придавал им никакой важности и не считал их своим настоящим, почетным делом, то что же еще мог он вменить себе в заслугу? Допустимо ли гордиться собою просто так, ни с того ни с сего, независимо от своих дарований, и, стало быть, считать, что ученость — удел тех людей, которым она нужна, чтобы тоже что-то собой представлять? А он держался со всеми учтиво и скромно, не из подобострастия, но из врожденного добронравия. В пятнадцать — шестнадцать лет он вырос в красивого юношу — стройный, с узким лицом, прямым носиком, изящным ртом, прекраснобровый, овеянный мягкой грустью. Жители острова любили его. Когда он, по тому или иному монастырскому поручению, приходил к ним в деревню, они говорили с ним улыбаясь, а за спиной многозначительно перешептывались; он это подмечал без удовольствия и все же с какой-то особой жадностью. Беседуя с кем-нибудь, он в то же время прислушивался к речам тех, кто стоял сзади и рассуждал о нем, отнюдь не стараясь не быть услышанными.
— Это, — говорили они, — Грегориус, школяр, аббатов крестник, youngster [94] прямо-таки удивительный, хотя всего-навсего сын нашего Виглафа и нашей Магауты, кто бы подумал! Grammatica [95] и divinitas прозрачны для него, что твое стекло, а ведь нисколько не важничает и всегда приветлив с людьми при таком уме, ну и lad [96]. Он и сам еще станет аббатом, вот увидите, и мы все, дайте срок, будем целовать ему руку. Да мы хоть сейчас поцелуем ее не в обиду себе, ибо (не знаю, слышит ли он меня, или нет) есть в нем что-то такое, перед чем нашему брату ничего не стоит и, пожалуй, даже приятно склониться; бог весть, откуда это у него! Не знай я наверняка, что его родила хижина, никогда бы я этому не поверил, и, право же, лучше бы мне о том не знать. Просто-таки жаль, что он не может похвастаться благородным происхождением, ибо, окажись оно у него, он, ей-ей, сгодился бы в правители какой-нибудь богатой страны — и так далее, в этом же смысле.
92
я не крал (англ.)
93
богословие (лат.)
94
юноша (англ.)
95
грамматика (лат.)
96
парень (англ.)