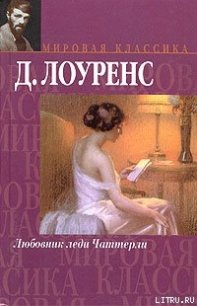Сыновья и любовники - Лоуренс Дэвид Герберт (книги онлайн TXT) 📗
Морел был хороший мастер, искусник, из тех, кто в хорошем настроении всегда поет. Бывали полосы — месяцы, чуть ли не годы, когда он был прескверно настроен, в разладе со всем светом. А порой на него опять накатывало веселье. И приятно было видеть, как он бежит с раскаленной железякой и кричит:
— Прочь с дороги… прочь с дороги!
А потом бьет молотом по раскаленной докрасна железяке, придает ей нужную форму. Или присядет накоротке и сосредоточенно паяет. И дети с радостью следят, как припой вдруг плавится и поддается и под острым носом паяльника скрепляет металл, и комната наполняется запахом разогретой смолы и жести, и Морел на минуту замолкает, весь внимание. Сапожничая, он всегда напевал, уж очень веселил стук молотка. Не без удовольствия клал он большущие заплаты на свои молескиновые шахтерские штаны, что делал довольно часто — ему казалось, слишком они грязные, и материя слишком грубая, чтоб отдавать их в починку жене.
Но больше всего ребятишкам нравилось, когда Морел готовил запалы. Он приносил с чердака сноп длинной, крепкой пшеничной соломы. Каждую соломинку очищал рукой, пока она не начинала блестеть, точно золотая, потом разрезал на части, каждая примерно по шесть дюймов, и, если удавалось, делал посреди каждой надрез. У него всегда был замечательно острый нож, которым можно было разрезать соломку, не повредив. Потом сыпал на стол кучку пороха — холмик черных крупинок на отмытой добела столешнице. Он готовил соломинки, а Пол и Энни засыпали в тоненькие трубочки порох и затыкали. Полу нравилось смотреть, как черные крупинки стекают по желобку ладони в горло соломки, весело заполняя ее до краев. Потом он заделывал отверстие мылом — отколупывал ногтем от куска, лежащего на блюдце, — и соломка готова.
— Пап, погляди! — говорил он.
— Молодец, мой хороший, — отвечал Морел, на редкость щедрый на ласковые слова, когда обращался к среднему сыну. Пол совал запал в жестянку из-под пороха, приготовленную на утро, когда Морел пойдет в шахту и подорвет угольный пласт.
Меж тем Артур, по-прежнему очень привязанный к отцу, облокотится на ручку отцова кресла и скажет:
— Папка, расскажи про шахту.
Морел рад-радехонек.
— Ну, значит, есть у нас один коняга… Валлиец, мы его так и кличем, — начинает он. — До чего ж хитрющий!
Рассказывал Морел всегда с чувством. Слушатели сразу понимали, какой Валлиец хитрый.
— Гнедой такой, и не больно крупный. Придет в забой, дышит эдак с хрипом, а потом давай чихать. «Привет, Вал, — скажешь ему. — Чегой-то ты расчихался? Чего нанюхался?»
А он опять чих-чих-чих. А потом сунется к тебе прямо нос к носу, эдакий нахал.
— Тебе чего, Вал? — спросишь.
— А он что? — непременно спросит Артур.
— А это ему табак требуется, голубчик мой.
Эту байку про Валлийца он мог повторять без конца, и всем она нравилась.
А, бывает, примется рассказывать что-нибудь новенькое.
— Ну-к, угадай, чего было, голубок мой? Стал я в обед надевать куртку, гляжу, а по руке мышь бежит. «Эй, ты!» — как крикну. Раз — и ухватил ее за хвост.
— И убил?
— Убил, потому как больно они, надоели. Они там кишмя кишат.
— А едят они что?
— Да зерно, если коняга свои яблоки обронит… а то в карман к тебе заберутся и завтрак погрызут… если не углядишь… где ни повесишь куртку… всюду найдут и грызут, дрянь этакая.
Эти счастливые вечера выдавались только тогда, когда у отца бывала какая-нибудь работа по дому. Притом он всегда рано ложился, зачастую раньше детей. Покончив со всякими починками и пробежав глазами заголовки газет, он уже не знал, чем заняться и чего ради бодрствовать.
И детям было покойно, когда они знали, что отец спит. Они какое-то время лежали в постели и тихонько разговаривали. Потом по потолку растекался свет от ламп, что покачивались в руках углекопов, уходящих в ночную смену, и дети вскакивали. Прислушивались к голосам мужчин, представляли, как они спускаются в темную долину. Иной раз подходили к окну, смотрели, как три-четыре лампы, становясь все меньше, меньше, мерцали во тьме полей. И потом так радостно было опять кинуться в постель и уютно свернуться в тепле.
Пол был довольно хрупкий мальчонка, подверженный бронхиту. Остальные все крепкого здоровья; еще и поэтому мать отличала его от других детей. Однажды он пришел домой в обед совсем больной. Но в этой семье по пустякам шум не поднимали.
— Что это с тобой? — строго спросила мать.
— Ничего, — ответил он.
Но обедать не стал.
— Если не пообедаешь, не пойдешь в школу, — сказала она.
— Почему? — спросил Пол.
— А вот потому.
И после обеда он лег на диван, на теплый ситец подушек, так любимых детьми. Потом, кажется, задремал. В это время миссис Морел гладила. И все прислушивалась — сынишка негромко, беспокойно похрапывал. В душе у нее вновь шевельнулось давнее, почти изжившее себя чувство. Поначалу она ведь думала, он не жилец. Но его мальчишеское тело оказалось на удивленье живучим. Быть может, умри он тогда, для нее это было бы некоторым облегченьем. Ее любовь к нему была замешена на страдании.
Пол лежал в забытьи, и сквозь сон до него смутно доносилось звяканье утюга о подставку, негромкое, глухое постукиванье о гладильную доску. В какую-то минуту пробудившись, он открыл глаза и увидел, что мать стоит на каминном коврике, держит горячий утюг у самой щеки, словно прислушивается, каков жар. Лицо ее неподвижно, губы крепко сжаты страданием, разочарованьем, самоотречением, крохотный, чуть-чуть неправильный носик, голубые глаза такие молодые, такие живые, теплые, смотришь — и сердце щемит от любви. В такие вот тихие минуты казалось, мать и мужественная и полна жизни, но давно уже у нее отняли то, что принадлежит ей по праву. И мальчик мучился, чувствуя, что жизнь ее не такая, какой должна бы стать, а сам он не способен возместить ей то, чего она была лишена, его переполняли горькое сознанье бессилия, но и терпеливое упорство. Так он с малых лет обрел заветную цель.
Мать плюнула на утюг, и шарик слюны подпрыгнул, скатился с темной, блестящей поверхности. Потом она стала на колени и, крепко нажимая, провела утюгом по мешковине с обратной стороны каминного коврика. В красном свете от камина лицо ее разгорелось. Полу нравилось, как она пригнулась, склонила голову набок. Ее движения такие легкие, быстрые. Всегда приятно смотреть на нее. Что бы она ни делала, дети всегда любовались каждым ее движением. В комнате было тепло, пахло горячим бельем. Позднее пришел священник и негромко с ней разговаривал.
Пол заболел бронхитом. Он не слишком огорчился. Что случилось, то случилось, и ничего тут не поделаешь. Он любил вечера, после восьми, когда гасили свет и можно было смотреть, как отблески пламени пляшут на погруженных во тьму стенах и потолке, как мечутся, качаются тени, и под конец кажется, будто комната полна безмолвно сражающихся воинов.
Перед сном отец заходил в комнату больного. Если кто-нибудь хворал, он неизменно был очень ласков. Но его приход нарушал царивший в комнате покой.
— Спишь, что ль, милок? — тихо спрашивал Морел.
— Нет. А мама придет?
— Она одежу складывает, кончает. Надо тебе чего-нибудь?
— Нет, ничего не надо. А она еще долго?
— Недолго, голубчик ты мой.
Минуту, другую отец неуверенно стоит на каминном коврике. Он чувствует, сыну его присутствие в тягость. Потом выходит на лестницу и говорит сверху жене:
— Парнишка тебя ждет не дождется. Ты еще долго?
— Да пока не кончу. Скажи ему, пускай спит.
— Она сказала, пускай, мол, спит, — ласково повторяет Полу отец.
— А я хочу, чтоб она пришла, — настаивает мальчик.
— Он говорит, он не уснет, пока сама к нему не зайдешь, — кричит Морел вниз.
— Надо же! Я недолго. И, пожалуйста, не кричи на весь дом. Есть ведь и еще дети…
Он возвращается в спальню, присаживается на корточки подле камина. Как же любил он огонь.
— Она говорит, уже недолго, — повторяет он сыну.
Морел послонялся по комнате, не зная, куда себя деть. Мальчика охватила лихорадочная досада. Казалось, присутствие отца лишь обостряет его болезненное нетерпенье. Наконец, постояв и поглядев на сына, Морел сказал мягко: