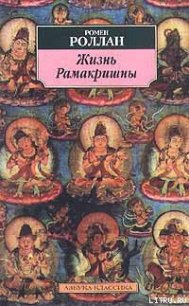Жан-Кристоф. Книги 1-5 - Роллан Ромен (книги бесплатно без регистрации TXT) 📗
— А еще говорят, французы легкомысленны! — воскликнул Кристоф, выходя из театра.
— Всему свое время, — насмешливо отвечал Сильвен Кон. — Вам хотелось добродетели? Вы видите теперь, что она еще есть во Франции.
— Но ведь это же не добродетель, — возразил Кристоф, — это красноречие!
— У нас, — отвечал Сильвен Кон, — добродетель на сцене всегда красноречива.
— Добродетель адвокатов, — сказал Кристоф, — и пальмовая ветвь всегда достается самому болтливому. Я ненавижу адвокатов. Неужели у вас во Франции нет поэтов?
Сильвен Кон повел его в театры поэтов.
Поэты во Франции были. Даже большие поэты. Но театр был не для них. Он оказался к услугам рифмоплетов. Театр для поэзии — то же, что опера для музыки. «Sicut amori lupanar» [54], — как говорил Берлиоз. Кристоф увидел принцесс-куртизанок, которые считали вопросом чести стать проститутками, — их сравнивали с Христом, восходящим на Голгофу; увидел друзей, обманывающих друга из преданности к нему; добродетельные супружества втроем, героических рогоносцев (тип этот, вместе с целомудренной проституткой, стал общеевропейским товаром — пример короля Марка вскружил всем голову {112}; подобно оленю святого Губерта {113}, их представляли не иначе, как с ореолом вокруг чела). Кристоф увидел также девиц легкого поведения, разрывающихся, подобно Химене, между страстью и долгом {114}; страсть призывала их последовать за новым любовником; долг требовал остаться с прежним — со стариком, дававшим им деньги, которого, впрочем, они обманывали. В конце концов они благородно избирали долг. Кристоф находил, что долг этот мало чем отличается от грязной корысти, но публика была довольна. Она удовлетворялась словом «долг»; существом дела она не дорожила — вывеска прикрывала товар.
Верхом искусства считалось наиболее неожиданное сочетание половой распущенности с корнелевским героизмом. Тут уж парижская публика получала полное удовлетворение: в равной мере ублаготворялись и ее распутство, и любовь к ораторству. Будем справедливы — болтливостью она отличалась еще в большей степени, чем похотливостью. Она упивалась красноречием. Она дала бы себя выпороть за красивую речь. Порок и добродетель, сногсшибательный героизм и самая грязная низость — не было такой пилюли, которой не проглотили бы, лишь бы пилюля эта была позолочена звучными рифмами и громкими словами. Все становилось материалом для куплетов. Все становилось фразой. Все становилось игрой. Когда Гюго метал свои громы, он тут же (по словам его апостола Мендеса) заглушал их сурдинкой, чтобы не испугать и малого ребенка… (Апостол почему-то считал, что говорит комплименты.) Никогда в этом искусстве не чувствовалась мощь природы. Парижские поэты все припомаживали: любовь, страдание, смерть. Как и в музыке, — и даже гораздо больше, чем в музыке, которая была во Франции более молодым и относительно более наивным искусством, — здесь тоже пуще огня боялись пресловутого «уже сказано». Наиболее даровитые холодно изощрялись в сочинительстве «навыворот». Рецепт был простой: брали какую-нибудь легенду или даже детскую сказку и писали как раз обратное тому, что в них говорилось. Получался Синяя Борода, избиваемый своими женами {115}, или Полифем, выкалывающий себе глаз по доброте сердечной, чтобы пожертвовать собой ради счастья Акиса и Галатеи {116}. Во всем этом не было ничего серьезного, кроме формы. Вдобавок Кристофу казалось (но он был плохим судьей), что эти мастера формы — скорее хлыщи и подделыватели, а не крупные писатели, не создатели своего стиля, владеющие широкой кистью.
Нигде поэтическая ложь не выставляла себя с большей наглостью, чем в героической драме. О герое у них было самое смехотворное представление:
Такие стихи принимались всерьез. Под нарядом громких слов и пышных султанов, под театральным размахиванием жестяным мечом, под картонными шлемами все та же неизлечимая легковерность какого-нибудь Сарду — отважного водевилиста, превращающего историю в балаган. Что было общего между действительностью и бессмысленным героизмом Сирано? Эти господа переворачивали небо и землю, подымали из гробов императора и его легионы, отряды Лиги, кондотьеров Возрождения, воскрешали смерчи, опустошавшие наш мир, — и все для того, чтобы показать какого-нибудь паяца, бесстрастно взирающего на резню в окружении целой армии рыцарей и гаремных пленниц и чахнущего от идиотской романтической любви к женщине, увиденной мельком десять или пятнадцать лет тому назад, или же короля Генриха IV, подставляющего себя под нож убийцы, потому что к нему охладела любовница.
Вот таким образом эти милейшие молодые люди изображали королей, и героев в интимной обстановке. Достойные отпрыски знаменитых простачков времени «Великого Кира», этих велеречивых служителей идеала — Скюдери, Ла Кальпренеда {117}, — певцов ложного героизма, героизма невозможного, всегда враждебного героизму истинному… Кристоф с удивлением замечал, что французы, считающие себя такими тонкими, лишены чувства юмора.
Но они превзошли самих себя, когда в моду вошла религия. Тогда актеры постом читали в театре «Гетэ» проповеди Боссюэ {118} под аккомпанемент органа. Еврейские авторы писали для еврейских актрис трагедии о святой Терезе. В театре «Бодиньер» ставили «Крестный путь», а в «Амбигю» — «Младенца Иисуса», в «Порт-Сен-Мартен» — «Страсти Христовы», в «Одеоне» — «Иисуса», в Зоологическом саду исполнялись оркестровые сюиты на тему «Христос». А один блестящий говорун, поэт сладострастной любви, даже прочел в «Шатле» публичную лекцию «Об искуплении». Понятно, из всего Евангелия эти снобы лучше всего запомнили Пилата — «Что есть истина?» и Магдалину, безумную деву. Их Христы — завсегдатаи парижских бульваров — неизменно были в курсе последних тонкостей салонного законодательства.
Кристоф сказал:
— Это уж совсем гадость. Воплощенная ложь. Я задыхаюсь. Уйдем скорее!
Однако среди этого современного делячества великое классическое искусство сохранялось подобно тому, как возвышаются развалины античных храмов среди бьющих на оригинальность построек современного Рима. Если не считать Мольера, Кристоф не мог еще оценить эти произведения. Ему не хватало глубинного понимания языка, а следовательно, и проникновения в дух нации. Наиболее чужой была для него трагедия XVII века — область французского искусства, наименее доступная иностранцам именно потому, что помещается она в самом сердце Франции. Он находил ее скучной, холодной, сухой, отталкивающе педантичной и жеманной. Действие вялое или натянутое, герои отвлеченные, как доказательства ритора, или же бесцветные, как разговор светских дам. Карикатура на античные сюжеты и античных героев. Выставка разума, логики, психологических условностей и вышедшей из моды археологии. Речи, речи и речи — вечная французская болтовня. Кристоф с иронией заявлял, что он отказывается решать, хорошо это или плохо — просто тут нет ничего интересного; какие бы положения ни отстаивались поочередно златоустами из «Цинны» {119}, ему было совершенно безразлично, которая из этих говорильных машин в конце концов победит.
54
То, чем является дом терпимости в сравнении с любовью (лат.).