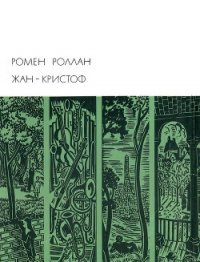Очарованная душа - Роллан Ромен (читать бесплатно книги без сокращений .TXT) 📗
Ты другое дело. С недавних пор! До прошлого года я считал, что ты такая же, как все. Я был привязан к тебе (не показывая этого), но доверия у меня не было. Теперь картина изменилась. Немало я за это время увидел, узнал и, вероятно, угадал. В тебе, в себе, в других… Видишь ли, многое мне открылось… Слишком даже!.. И, между прочим, много уродливого, открылись такие вещи, от которых больно. Но я решил, что лучше знать их, раз это правда. Да, непригляден мир. Женщин я не уважаю. Мужчин презираю. Презираю и себя самого. Но тебя – тебя я уважаю. Я научился понимать тебя. Я узнал о тебе кое-что, чего ты не говорила мне (не очень-то много ты мне говорила!) и о чем мне рассказывала Сильвия. Дошло до меня и другое, о чем Сильвия не говорила, о чем она даже не подозревает;
Сильвия славная, но такие вещи она не может понять… А я их понимаю…
(Так мне кажется… Нет, я уверен!) И от этого мне многое стало ясно во мне самом, чего я раньше не понимал… Ах, как это все бессвязно, все, что я пишу тебе!..
(От досады его перо вонзилось в бумагу и продырявило ее.).
…Как трудно рассказывать о себе и издалека и с глазу на глаз! Язык скован. Мне кажется, что легче было бы объясниться, если бы ты была здесь, передо мной… Нет, нет! Не знаю… Твой взгляд, когда ты смотришь на меня, ласково-покровительственный или насмешливый (и то и другое приводит меня в ярость), или же отсутствующий, далекий… Ты смотришь мимо меня… Взгляни как на сына своего, как на друга, как на мужчину!..»
Аннета видела его глаза, неотрывно смотревшие на нее, взыскательные и суровые. И робко отвернулась… Ее сын – мужчина!.. Этого она еще не представляла себе. Мать всегда видит в своем ребенке дитя. В этих письмах подростка, неровных, неуверенных, гневных, она слышала повелительную ноту. И склонилась, как в старину склонялась мать, лишившись мужа и отдавшись под покровительство старшего сына.
Но тотчас же опять выпрямилась…
«Мой сын. Человек, которого я создала. Мое творение… Мы равные».
Она все читала и читала в сумраке, не замечая, что сумрак густеет…
Марк вошел. Она быстро смела со стола письма, и они упали на пол. Нет, не надо, чтобы он застал ее за чтением. Она не могла признаться ему, что еще не читала их до сих пор.
Марк удивился, застав ее в темноте, и хотел включить свет. Аннета остановила его. Они подошли к окну и заговорили. Они смотрели на улицу: в магазинах вспыхивали огни, мимо них торопливо скользили тени. Обоих охватило смущение. Аннета старалась разобраться в новом потоке запутанных чувств. Марк был настороже, его обижало, что она ни разу не намекнула на все, в чем он открылся ей. Говорили холодно, принужденно. Часто умолкали. Марк рассказывал о том, что узнал за день: о последних известиях с фронта, о боях, потерях… Ничего интересного! Аннета не слушала…
И вдруг она молча прижала его к себе. Марк стоял неподвижно, онемев от удивления.
Она сказала:
– Зажги свет! Он повернул выключатель. И увидел письма, разбросанные по полу. Она показала их ему. И призналась во всем, во всем, что хотела от него утаить. Попросила у него прощения. И сказала:
– Друг мой…
Но теперь это уже был не мужчина, в чьих письмах прорывались ноты гнева и гордости. Это был маленький мальчик, и он скрылся к себе в комнату, чтобы совладать со своим волнением.
Аннета не последовала за ним. Она сама не могла справиться со своим волнением. Она стояла на том самом месте, где он покинул ее, и молчала.
Приход Сильвии разрядил их напряжение. Пообедали втроем. Сильвия, всегда такая чуткая, не поняла, что с ними происходит. В них была какая-то тишина, далекость.
Но лишь только Сильвия ушла, они сели за стол и несколько часов подряд просидели рука в руке, тихонько разговаривая. И продолжали перебрасываться фразами из комнаты в комнату даже и после того, как решились наконец расстаться. Ночью Марк встал и босиком подошел к кровати Аннеты: он уселся на низкий стул у ее изголовья. Они уже не говорили. Но жаждали быть вместе, в тесной близости друг к другу.
В наступившей тишине парила измученная душа дома. Печали и страсти этого дома, охваченного пламенем… Этажом ниже семья Бернарденов, обезглавленная потерей сыновей, не de profundis clamat [74] к вечному молчанию… Двумя этажами ниже скорбит Жирер, осиротевший после смерти единственного сына, засохший в своем патриотическом идолопоклонстве, за которое он отчаянно цепляется… Этажом выше, где живут молодые супруги Шардонне, неотвязная, позорная и невысказанная тайна выжигает, словно каленым железом, тело и душу: двух любящих людей, навек соединившихся, она сделала навек чужими… Даже в квартире Аннеты через коридор, в пустой, боязливо запертой комнате, еще носится жаркое дыхание кровосмесительницы, наложившей на себя руки… Дом – как чадный, наполовину сгоревший факел. Из тех, кто остался в живых, никто не смыкает глаз в этот глухой полночный час. Их гложут лихорадка, боль, неотвязные мысли…
Лишь они одни, сын и мать, плывут на гребне потока над этими пылающими душами. Несколько слов, которыми они обменялись, показывают, что оба подумали об этом. Им не хотелось высказать вслух свою мысль, но они взялись за руки, точно страшась потерять друг друга. Они вместе спасались от пламени, как на пожаре в Борго…
В Аннете проснулась материнская тревога, и она сказала своему маленькому Энею:
– А теперь – спать! Это неблагоразумно, мой мальчик. Ты заболеешь.
Но он упрямо тряхнул головой:
– Ты подежурила у моей постели. Теперь моя очередь.
Забрезжил рассвет. Марк заснул сидя, приникнув головой к одеялу. Аннета встала и уложила его на свою постель; он не проснулся. И, пока не наступил день, она просидела в кресле.
Проговорив весь вечер и едва ли не всю ночь, они почти ничего не сказали друг другу, кроме самого насущного: что они снова нашли друг друга и теперь пойдут рука об руку. Но подробную исповедь о том, что наполняло их ум и сердце, они отложили на будущее и продолжали откладывать потом.
Аннета исподволь узнавала, как за последний год менялись взгляды ее сына на войну и общество. И она с волнением прочла между слов (ему неловко было сказать ей это в лицо, а ей неловко слушать), как он открыл и узнал душу своей матери и как стал ее боготворить.
Но те мучительные признания, которые камнем лежали на сердце Марка, он все еще не решался сделать. Аннета не старалась вызвать его на откровенность. Но она поняла, что они будут неотвязно преследовать его, пока он не избавится от них, и пришла на помощь этой беспокойной душе, как опытная акушерка.
Как-то в сумерки – час доверчивых признаний, час, когда уже почти не видно друг друга, – она, стоя возле него, сзади, произнесла:
– У тебя на душе какое-то бремя. Дай мне понести его.
– Хотел бы, но не могу, – напряженным голосом ответил Марк.
Она притянула его к себе, прикрыла ему глаза рукой и сказала:
– Теперь ты наедине с собой.
И он заговорил, с трудом, почти шепотом. Рассказал обо всем пережитом за последние годы, плохом и хорошим. Он решил говорить спокойно и твердо, точно о ком-то другом. Но бывали тягостные минуты, когда рассказ обрывался и Марк не знал, найдет ли он в себе мужество продолжать. Аннета молчала. Она ощущала под своими пальцами воспаленные веки, чувствовала, как ему стыдно. Легким нажимом руки она, казалось, говорила:
«Расскажи! Стыд я беру на себя».
Аннета не удивлялась тому, что слышала. Она знала все, в чем он признавался, все, что он обходил молчанием. Таков был мир – мир, куда она бросила своего сына и сама была брошена неведомой силой… Она жалела его, жалела себя… Но что же делать! Выше голову! Такова жизнь. Примем ее!..
Когда он договорил, ему стало страшно: что она скажет? Аннета наклонилась и поцеловала понурую голову сына. Он сказал:
– Сможешь ли ты забыть?
– Нет.
– Так ты меня презираешь?
– Ты – это я.
– Но я презираю себя.
– А ты думаешь, я себя не презираю?
74
Из глубины взывает (лат.).