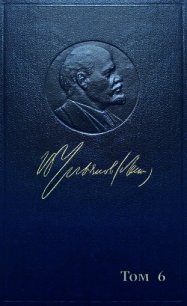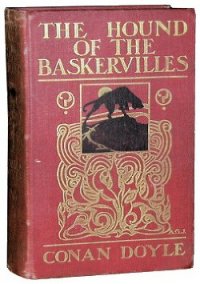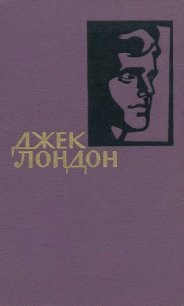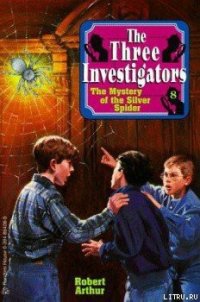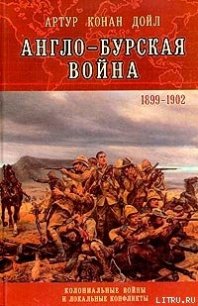На стрежень - Зенкевич Михаил Александрович (е книги txt) 📗
VIII
Да, скоро экзамены. С первого мая всех распустили для подготовки. С утра — зубрежка, а вечером можно пойти на Волгу. Розоватая, как и пароходы «Самолет», самолетская пристань рядом с яхт-клубом служит почему-то излюбленным местом встреч и сборов учащейся молодежи. Здесь на носу конторки вечером второго мая встретил Коля Черную Розу. Она сидела на тумбе, на которую накидывают удавной петлей толстые причальные канаты пароходов, и сама первая окликнула его.
— Вы знаете, что Карл арестован? — тихо сообщила она. — Да, арестован и после допроса отправлен в Петербург по делу Балмашева… А вот и сестра с Кулкой. Мы собираемся на Зеленый. Поедемте с нами. Ведь вы умеете грести?
— Конечно, умею.
— Только имей в виду, что мы вернемся поздно, — предупредил Кулка.
— Ну так что ж? Хоть до утра! — отпарировал Коля второе обидное замечание.
Чтобы доказать, что он умеет хорошо грести, Коля не вставал с весел от самой конторки до Зеленого и натер на ладонях волдыри мозолей. После перевала от Исад, за островом, течение слабеет, и лодка идет легко по тихим заводям, рассекая, как камыш, залитые тальники.
— Слышите? Соловей!
— Это лягушки, Роза.
— Нет, не лягушки, а соловей. Я хорошо слышала. Бросьте грести.
Перегнувшись с кормы и черпнув бортом, Черная Роза ухватилась за ствол торчавшего из воды зеленого деревца. Никелированные лунным сияньем заводи звенят надсадным водяным воплем и тинистым икряным кваканьем. Неожиданно разнобойный лягушачий хор покрыла музыкальная чистая сольная нота. Соловей! Он щелкнул звучно несколько раз и смолк, прислушиваясь, какое колено выкинет невидимый соперник. Откуда-то подальше, из займища, послышалось ответное щелканье другого лунного солиста.
— Я говорила, соловей! — торжествовала Роза. — Давайте послушаем. Пристанем к берегу. Вот к этому бугру.
Но послушать соловья не удалось: он замолчал, как только причалили. Вместо этого, набрав сушняку, развели большой костер — у огня теплей и комары не так кусают!
— Эх, пива не взяли! — пожалел Кулка. — Были бы с нами Карлушка и Степка, непременно заехали бы у Исад к Федорову, захватили бы плетушку с пивом.
Странно подумать, что не только Карлушка, но и Балмашев могли бы тоже сейчас сидеть с ними здесь, на Зеленом у костра, пить пиво, петь, дурачиться…
— Сбе-ейте око-овы, да-айте мне во-оли, а на-учу-у вас свобо-оду любить! — затянула, лежа на песке, вполголоса Черная Роза, а потом, вскочив, предложила: — Давайте прыгать через костер! Кто за мной?
Подобрав юбку, она с разбегу перемахнула через пламя, наступив на конец головни, взметнувшей сноп искр.
— Что ты делаешь, Роза! Ты так загоришься, — остановила ее сестра.
— Ничего! Волга рядом. Можно броситься в воду. Назад лодка сама несется по течению. Можно не
мозолить рук, бросить весла и сидеть спокойно. Так привольно, хорошо, что не хочется ни петь, ни разговаривать.
— Можно положить вам голову на колени? — смутила Колю неожиданным вопросом Черная Роза.
— По… пожалуйста…
Закинув руки, Роза легла, вытянувшись, на дощатую стлань. В заводях ее зрачков под черным ивняком ресниц дробятся и плавают две крошечные луны. Коля замер и боится шевельнуться. От легкой тяжести черной кудлатой головы, пахнущей дымом костра и духами, колени затекают и сладостно немеют.
— Какая сегодня необычайно яркая луна! Словно ее кто вычистил мелом и оттер суконкой, — качнув лодку, передернула плечами Роза. — Как это у Пушкина в опере поют русалки — «Нас греет луна». Мне кажется, она действительно чуточку пригревает.
Луна! Она владела полмиром и светила и там в краткий сумеречный промежуток двух зорь белой ночи так ярко, что его до двенадцати часов продержали в канцелярии: боялись, при переводе во дворе увидят заключенные из окон. Отчего-то нездоровилось, напала какая-то слабость и сонливость. Все хотелось прилечь. Он и прилег наконец на жесткий клеенчатый диванчик, задрав ноги и просматривая комплекты журнала «Нива». Глупое занятие, но помогало убить время.
«Дорогие мои! Что бы ни было со мной, будьте так же тверды и спокойны, как я…» Это начало письма к родителям. Странно, что он позабыл и не помнит, что писал дальше. Отца он так и не видел. Славный старикан. Ведь это он окрестил сына Степаном в честь Разина и шутя говорил про него: «Вот у меня какой террорист растет». Теперь, наверно, запьет с горя горькую… Мать он видел сегодня в пять часов перед отъездом в Петропавловской крепости через решетку. По ее глазам он понял, что она все хотела, но не решалась попросить его подписать прошение на высочайшее. Что бы ни было, прошения о помиловании он не подпишет. Да, студент Николай из его рассказа был счастливей, его приговорили к двадцати годам, а не к повешению…
В полночь стало немного темней — луну затянула светлая тучка, — и его перевели в старую тюрьму, в камеру номер пять. Ее целый день спешно приготовляли для нового постояльца: покрасили, провели воду и электричество, а за стеной рядом поставили телефон. Свежий ли запах масляной краски подействовал так успокоительно, одурманило ли чтение пыльных комплектов журнала или опьянил свежим ветром переезд по Неве из Петропавловской в Шлиссельбургскую, но только он по приходе почти сразу же крепко уснул. Койка закачалась и поплыла, и об нее с шуршаньем зашарпали, ударяясь, лебяжьи ладожские льдины. А мать (такой она и отпечатлелась в мозгу, когда его уводили) вцепилась судорожно в решетку и провожает его жалкой, растерянной улыбкой. Бедная мама!
Чудаки! Стоило ли заново ремонтировать для него камеру, если у них кипит другая потайная работа — поважней? В тени, в углу, за старой тюрьмой напротив окон из камеры Иоанна Антоновича, втихомолку по-воровски (громко тукать топорами запрещено) сколачивают эшафот. Скоро все будет готово: виселица, две лестницы, веревка бельевая семи аршин (с запасом — вдруг оборвется), жирно намыленная куском простого мыла, саван, гроб и мешок негашеной извести у ямы. Боже, как все это убого и просто, и ужасно в своей простоте и убожестве! Она должна быть готова ко всему, бедная мама…