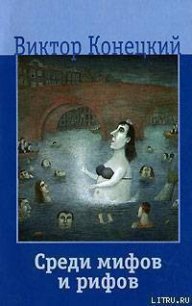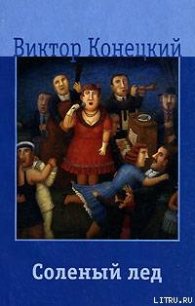За доброй надеждой - Конецкий Виктор Викторович (книги полностью .TXT) 📗
Смотрю местные журнальчики. Оцениваю степень развращенности — незначительная. Порнография вообще отсутствует. Есть шикарные фотографии полуголеньких белых. Рядом на тротуаре они же идут в куда более раздетом виде. Сорокалетняя мать в сверхмини, в чулках на подвязках, и на трех поводках — три детеныша. Детеныши запряжены по всем лошадиным правилам, упряжь пересекается на груди крест-накрест.
Успеваю заметить дырку на чулке белой значительно выше ватерлинии. В чем смысл мини? Вероятно, не только в экономии материи, но и в сексе. Однако секс из меня куда-то исчезает, когда все тебе видно не через щелочку, а сквозь телескоп атмосферной подушки.
Молодые, состоятельные, ухоженные сенегалки редко в мини. Знают слабое место. Имею в виду ноги. Сенегалки не черные — матово-тепло-коричневого цвета. И одеты ярко, цветасто, кричаще, но крик сведен в гармонию и веселит, а не угнетает глаз. Плечи обнажены, шея не скрывается в волосах, голова сидит гордо. Ножки вот подводят. Длинные очень и костлявые. И все равно отчаянно красивы иногда ухоженные сенегалки. Движутся в полной независимости от остального мироздания. Наплевать им на мироздание. А я на чужбине, среди массы городского люда, с особенной глухой тоской испытываю одиночество. Когда тоска накатывает среди человеческого муравейника, среди диковинных акаций, пальм, запустивших корни в камень под газетным киоском, среди солнца и солнечного шума, тогда она неестественна и глупа, как картины абстракционистов среди реалий Эрмитажа, но так уж меня устроил бог.
Уличная распродажа.
Газели с детишками и без, обрубки идолов, хитроумные зайцы; болтливые, энергичные, необузданные и зловредные обезьяны; коварные и бесчестные пантеры, у которых поступь женщин, взгляд властелина и душа раба; изящные калебассики — сосуды из тыквы; глупые гиены, которые по двадцать лет ходили в мусульманскую школу, но умнее не стали, у них только зады отвисли под тяжестью вязанок хвороста, которые они таскали в школу каждый вечер все двадцать лет... И — маски. Сотни застывших на века ужасных человеческих гримас. Сенегальская смерть зияла пустыми глазницами со всех сторон.
Утешительна была ее дороговизна. Смерть стоила по десять тысяч сенегальских франков. Даже при возникновении кощунственного, извращенного желания купить ее я не смог бы. На прекрасные фигурки стилизованных богинь или черт знает кого валюты тоже не хватало. Богини были из туманного дерева, фиолетового в глубине и с жемчужным отливом на поверхности. Богини и женские головки из красного дерева, тяжелого, как бивень мамонта, уравновешивали смертную пустоту ритуальных масок.
Торгую газель с двумя детенышами. Мать-газелиха целует газеленка. Морда матери переходит в мордочку звереныша плавно и незаметно. Младший детеныш сосет мать, забравшись ей под брюхо. Сентиментальность седьмого месяца рейса. Острое отсутствие вкуса, черт побери. Растерянность под взглядами и гримасами масок вокруг...
Показываю черному продавцу один палец и добавляю таузенд.
Продавец выкатывает белки и машет руками в истерике: демонстрирует обиду и оскорбление. Такое впечатление, что я плюнул на какую-нибудь сенегальскую святыню.
Смотрю на блики, которые вспыхивают на черном лбу продавца. Блики от тропического солнца. Солнце отражается от взмокших черных лбов точно так, как от зеркала специалиста по уху, горлу и носу. А я всегда думал, что черный цвет поглощает чуть не сто процентов лучей. Ерунда это. Если абсолютно черное тело отполировать и слегка смочить потом, оно не поглотит ни единого луча. В этом весь фокус. Нашенская серая кожа поглощает лучи, даже не разжевав, давится ими от жадности.
Продавец махнул широким рукавом бурнуса и повел в тылы хозяйства. Балахон-бурнус — бубу — развевался вокруг длинных и тощих ног коммерсанта.
Через минуту мы оказались в строении, сколоченном из ящиков, — точь-в-точь наш автомобильный гараж на пустыре среди помойки, обреченный на снос неумолимым райсоветом.
Сарайчик был битком набит газелями.
Огромное стадо молчаливых газелей ласкало детенышей и кормило их совершенно адекватным образом. Только бюсты Мао я видел однажды в таком количестве и так же густо покрытых пылью.
Продавец взял франки и ткнул пальцем в ближайшую газель. От пальца осталась в пыли на газели ямка.
— Тряпочку! — заныл я. — Как ее нести, черт возьми? Оботри!
Продавец с раздражением задрал бубу, вытащил из карманов штанов два обломка какой-то кости и засунул в лоб газели. Получились рога. Вероятно, он решил, что я требую за таузенд еще и рогов.
Я взял газель за шею и поволок на свободу. (На судне, когда я протер статуэтку, на ее заду обнаружился здоровенный сук. Выглядел он, как знаменитое пятно марала. Газель оказалась бракованной. Потому продавец и не понял просьбы о тряпочке.)
Я шел к порту по узким будничным улочкам.
Бежали из школы черные детишки, тузили друг друга портфелями, как тузят во всем мире.
Детишки бежали разнокалиберные — признак тяжелой жизни. В разном возрасте попадают детишки в школу, и вот в одном классе девушка с пышной грудью и мальчуган — ощипанный воробушек с птичьими ножками, весь тонкий, паутинный, но бежит тоже, молодец, портфелем размахивает. Галдят, радуются вечереющему солнцу, прыгают через поваленную ветром старую акацию, рвут цветы с умирающих веток.
И я сорвал.
Пальмы, пальмы, пальмы. Их стволы обвиты синими венами каких-то лиан.
Банки. Не жестяные, а денежные. Главное, что бросается в глаза в столицах неприсоединившихся стран, — банки. Они заполняют центры, вздымаются над низкой жизнью, над алыми и желтыми цветами декоративных кустов, над пальмами. Далеко вершинам пальм до крыш банков, до флагов Англии, Канад, Америк, свисающих из окон.
А у ворот порта спит на тротуарах у подножия величественных пальм голь перекатная — черные люди без бликов на пыльной коже, с конечностями, отсохшими после неведомых болезней. И сидят на земле недобро раздобревшие негритянки-перекупщицы, торгуют кусками батона и пригоршнями ворованного арахиса. Тут же ченч идет — старинная меновая торговля, объединяющая людей во всемирное общество еще со времен Оленя и Бронзы. Тут за сигареты можешь нос рыбы-иглы выменять, если своих и чужих властей не боишься: везде ныне меновая торговля запрещена. Она в обход таможни идет, в обход организованных денег и порядочных сборов.
Вечерний Дакар блестит и бурлит в центре, как не полупустой, а полуполный Париж. Маяковский так говорил о зрительном зале, где его горланско-бунтарское существо желало бы увидеть побольше читателей и почитателей.
Вечерний Дакар, если всех черных прохожих сделать белыми, а белых черными, вполне сойдет за Париж тех улиц, которые идут параллельно Елисейским полям.
Шикарные витрины, француженки за стойками и прилавками: «Мсье!.. Мадам!.. Бонжур!»
Витрины отражаются в лаке авто.
Лак авто — в витринах.
Волшебная иллюзия современного капиталистического города: кажется, что красота, и легкое счастье, и изящная любовь, и вечность молодости — в любой пачке сигарет «Пелл Мелл», в пене оранжада и рюмке коньяка, в каблучке туфельки на женской ножке. Заверни за угол, еще за тот угол, за этот фонтан вечерних цветов с черной цветочницей, и — никаких мучительных вопросов бытия и быта, вечернее счастье до самого горизонта, остановленное мгновение; все линии и спектры мира сошлись в той точке, которая всегда на уровне твоих собственных глаз, которую носишь с собой всегда, ибо так устроен твой хрусталик — магический кристалл перспективы, вечный обман, подаренный тебе мирозданием; предвкушение хорошей книги, падающие в Сену осенние листья платанов, дрожание Адмиралтейского шпиля в Неве — все будет, только сверни за угол, отразись в витрине, увидь свое лицо среди алмазов бутылок на витрине бара в центре Дакара, где перед полетом сиживал Экзюпери; и забудешь о невзгодах и трудном величии, кроме них есть еще нечто — тебя ждет легкая суть всех вещей мира, тебя ждет Касабланка, как того пилота, перед которым мерно покачивается капот самолета меж звезд, который в ночи возвращается с почтой над твоей головой.