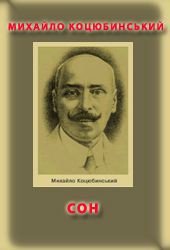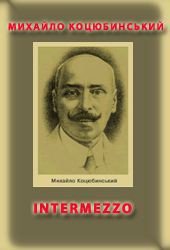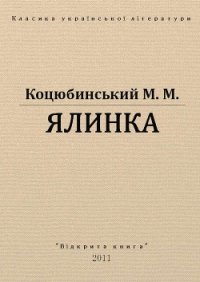Повести рассказы. Стихотворения. Поэмы. Драмы - Коцюбинский Михаил Михайлович (читать книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Наконец, однажды, так после троицы, высокая заводская труба дохнула клубами дыма, и из бывших развалин сахарного завода донесся до деревни гудок.
Андрий сорвался с места. Он наклонился вперед, вытянул шею и ловил ухом этот зов «машины», долго, торжественно, словно боялся пропустить хотя бы одну ноту.
Потом обернулся к жене, весь сияющий; лоб его сразу вспотел.
– Слышишь, Маланка?
Маланка слышала.
– Это тебе не земля, которую еще когда-то будут делить… Это тебе, пане добродзею, не шутка, а завод…
Маланка вздохнула. Она взглянула на свои черные сухие руки, просившие другой работы, и почувствовала, как ее мечты упали куда-то глубоко, на самое дно сердца.
В тот же вечер Андрий пошел в ночную смену.
Хотя с мясоеда, когда женился Прокоп, немного времени прошло, но Гафийке казалось, что Прокоп вырос и даже постарел. Он стоял перед нею и говорил, а она глядела на его широкие плечи, спокойное лицо, на котором неожиданно как-то выросла борода и запечатлелась степенность женатого. Ей казалось, что его серые, немного холодные глаза смотрели не столько на нее, сколько куда-то внутрь, в себя, и потому все, что оп говорил, было крепко и полновесно, как доброе зерно. Она тоже слыхала, что богатеи сердиты на него.
– Больше всех злится на меня Пидпара. В воскресенье кричал на сходе: «Таких, как Кандзюба, в Сибирь. Завел газеты, книжки голытьбе читает, бунтует народ. Бумажки разбрасывает». А сам, как встретит, сейчас же спрашивает: «Что там слыхать? Что про войну нового пишут?» Мать тоже попрекает: «Жжет свет, а он дорог».
– Ну, а Мария?
Прокоп взглянул на нее испытующим взглядом. Гафийка стояла крепкая, обожженная солнцем, с тонким пушком на руках и ногах, как золотая пчелка. Опустила глаза и старательно ловила двумя пальцами ноги какой-то стебель.
– Мария? Что ж, молодица как молодица… Ей лишь бы люди, лишь бы разговоры слушать да свое вставить. Не так сложилось, как думал. Мне бы товарища надо, да ты не захотела.
Стебель не давался, выскальзывал.
– Оставь, Прокоп, довольно.
– Да я ничего. Не кличешь тоски, сама приходит. Все ждешь Гущу?
Гафийка подняла на Прокопа глаза.
– Этой ночью Марко мне снился.
– Ага! Я и забыл. Дядя Панас встретил меня утром: «Приду к вам, говорит, послушать, что там умные люди советуют…»
– Снится мне, только я будто кончила разносить листки и уже последний вынимаю, чтобы засунуть Петру в сарай, кто-то меня хвать за руку. Я так и похолодела вся. Смотрю – Марко. Такой сердитый. «Я, говорит, сижу за вас в тюрьме, а ты так слова мои сеешь? Покажи руки». А мне стыдно- страх, что руки пустые, глаза поднять не смею, не смею показать ему руки. И хочется похвастать – и голос меня не слушается… Слышишь, Прокоп, когда новых дашь? У меня больше нет.
– Нет и у меня. Пойду на неделе в город, так принесу. А ты заходи.
Прокоп обнимал взором Гафийку. Упругая, сильная, чистая – она сияла на солнце, как добрая пашня, как полный колос, а глаза у нее были глубокие и темные, как колодец.
Эти глаза его очаровывали. Прокоп вздохнул.
Но – вздыхай не вздыхай – иначе не будет.
Он хотел, по крайней мере, словом облегчить душу, подобно тому как туча жаждет пролиться дождем, и говорил, что своя неудача – пустое. Мирское горе велико. Он нагляделся на него. И дома и всюду. Везде бедные внизу, богатые наверху. В долине слезы, на вершинах издевательство. Люди в ныли, как спорыш придорожный, затоптаны сильным, богатым. И некому крикнуть: подымись, народ, протяни руку за своей правдой. Сам не возьмешь – никто не даст. Не народился еще, видно, тот, кого услышат. Надо иметь сильный голос, а что можем мы? И где наш голос? Только шепотом скажешь: вставай, Иван, умой лицо. Поднимись, Петр, нас больше будет. Хотя бы удалось это сделать – нескольких разбудить, а те уж других. Запеклась неправда в каждом сердце, прикоснись к болячке – и заноет.
Что-то было тихое, покорное в этих жалобах, точно река грустно звенела по мелким камешкам.
Нет, Марко не такой. Он, как бурный поток, вырывал бы каменья, рыл берега, с корнем выворачивал бы деревья. Его слушали б все.
Теперь для Маланки настали лучшие времена. Андрий работал и хотя не весь заработок приносил домой, но все же голодными они не сидели. С Андрием она редко и виделась: он ходил в ночную смену, а днем спал или бродил где-нибудь с Хомою вдвоем. Маланка с Гафийкой тоже зарабатывали, и дни их проходили на чужой ниве. Но Маланка не знала покоя. Слухи о земле ожили с весной, будто взошли вместе с озимыо и с ней разрастались. Что ж из того, что, выбросив узелки с семенами, она отказалась от своих старых надежд; они теперь снова просились к ней в сердце. Из уст в уста, от хаты в хату, из деревни в деревню катилась радость: будут землю делить. Кто сказал первый, кто последний – никто не спрашивал. Слухи ползли, как облака, сами собой, носились в воздухе, как пыльца с цветущих хлебов.
– Слыхали? Будут землю делить.
– Наделят людей. Кончатся беды.
– Земля уже наша. Скоро начнут делить.
– Даже паны говорят: отдадим землю.
– Паны? Не верьте.
– А как же!
– Известно, боятся.
У Маланки глаза блестели.
А тут еще – сама земля зовет ее.
Поет Малайке колос, смеется луг утренними росами, звоном косы, зовут огороды синей сочной ботвой, тучная земля дышит на нее теплом, как некогда материнская грудь.
А на ее зов отвечает Маланкино сердце, откликаются руки, сухие и черные, отдавшие силу земле и получившие от нее свою силу.
Иногда среди работы она останавливалась и оглядывала землю.
Катились низом нивы, стелились по холмам, полные, свежие, богатые, но все чужие. Сколько глазом окинешь – кон-ца-краю нет. А все чужие. И даже не крестьянские, а господские. Зачем пану? Куда все денет?
Сердцу было больно смотреть на нивы, а поле потихоньку шептало и утешало:
«Не печалься… поделят… поделят…»
Думы о земле будили Маланку по ночам.
Она просыпалась вся потная, в тревоге. Ей вдруг начинало казаться, что это невозможно. Не отдаст своего добра богач мужику никогда, никогда. У богача деньги, у него сила, а что у мужика? Четыре конечности – руки да ноги. Ничего из этого не выйдет; все будет, как было; до самой смерти будет бедняк на чужом тратить свои силы, до самой могилы не увидит Маланка лучшей доли, а Гафийкина красота и молодость увянут внаймах, почернеет Гафийка, завянет на чужой работе, как ее мать. Только и земли твоей будет, что лопатой бросят на грудь.
Холодным потом обливалась Маланка, вся замирала и напряженно всматривалась в ночную тьму, словно спрашивала: что же будет? Но ночь темна, слепа, глуха: она умеет только молчать. А вместе с тем на дне души, втайне от холодной мысли шевелилась другая, теплая, маленькая н добрая. Она что-то шептала Маланке и вела за собой в поле.
Волнуется на солнце нива, это божья постель, лен цветет синим, сказал бы – небо загляделось в озерцо; на сенокосе – телега. Гафийка кормит ребенка, а другой рядом с Маланкой: «Бабушка!…» И все это – богатая нива, телега, лошади, семья – все это свое, родрое, от сердца не оторвешь. «Что ж это я надела сегодня сапожки красные, как в праздник… видишь, цветут в поле, словно мак…»
Утром Маланка, кого встречала, спрашивала:
– Не знаете, будут землю делить?
Кузнечиху – и ту остановила:
– Слыхали, сердце, скоро землю нам должны давать?
– А как же, Малася, слыхала… А как же. Только у людей и разговора, одним только живут, одним и дышат. Мой еще зимою купил у пана десятину, задаток дал, а больше не хочет платить. Зачем, говорит, выбрасывать деньги, если все равно земля будет моя. Пусть пропадет задаток. А мне жалко и задатка. Вот еще! За свое да платить. И копейки не дам. Пристаю к своему, чтобы отобрал, а он не хочет. Что с воза упало, то говорит, пропало. Будут, будут делить. На вашу долю больше придется – вы безземельные. Только б справедливо делили, чтоб люди не дрались меж собой…
– Ой, дал бы милостивый… А люди, известно, божьи собаки – грызутся. Спасибо вам, сердце, на добром слове. Пусть вам господь помогает на всех путях ваших…