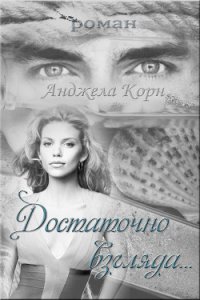Феррагус, предводитель деворантов - де Бальзак Оноре (серия книг TXT) 📗
Он вышел в гардеробную и вернулся со шляпой в руках.
— Ну, смотри! Я не собираюсь подвизаться в роли Бартоло, но шляпа тебя выдала. Ведь это следы дождевых капель! Значит, ты куда-то ездила в фиакре, и дождь забрызгал тебе шляпу, когда ты нанимала экипаж или когда входила в дом, где ты была сегодня, или когда выходила оттуда. Но ведь жена может выйти из дому и без дурного намерения, даже пообещав мужу никуда не выходить. Мало ли может быть причин, чтобы поступить так! У вас, женщин, могут быть причуды, к го осудит вас за них? Вы бываете непоследовательны в своих поступках. Ты, возможно, забыла что-нибудь сделать, оказать кому-либо услугу, нанести визит, совершить доброе дело. Ничто не должно помешать жене правдиво рассказать мужу, что она делала. Разве краснеют, открывая душу другу? Так вот, моя дорогая Клеманс, с тобой говорит не ревнивый муж. а любовник, друг, брат. — В страстном порыве он бросился к её ногам. — Не оправдывайся, нет, а успокой мои страшные муки. Я знаю, ты выходила из дому. Так что же ты делала? Где была?
— Да, я выходила, Жюль, — ответила она взволнованным голосом, хотя лицо её оставалось спокойным. — Но не расспрашивай меня ни о чем. Жди и верь мне, иначе тебя замучают угрызения совести Жюль, дорогой мой Жюль, доверие — это добродетель любви. Признаюсь тебе, в эту минуту я слишком потрясена, чтобы тебе отвечать, но я не притворщица, и я тебя люблю, ты это знаешь.
— Ну, что же! Вопреки всему, что может пошатнуть веру мужчины в женщину, возбудить его ревность — ибо я, значит, не первый в твоём сердце, не единое с тобой существо, — я все же хочу верить тебе, верить твоему голосу, Клеманс, твоим глазам! Но если ты лжёшь, ты заслуживаешь…
— О, тысячи смертей! — досказала она.
— Я ничего не скрываю от тебя, а ты, ты…
— Замолчи, — прервала она его, — наше счастье зависит от нашего с тобой молчания.
— Ах, я все должен знать! — воскликнул он в неистовом порыве бешенства.
В эту минуту из передней до них долетел визгливый, пронзительный голос какой-то женщины.
— И войду, меня не удержите! — кричала она. — Да, войду, мне надо её видеть, и я её увижу.
Жюль и Клеманс бросились в гостиную, и тотчас кто-то с такой силой рванул двери, что они широко распахнулись. В комнату стремительно ворвалась молодая женщина, и два лакея, тщетно пытавшихся загородить ей дорогу, стали объяснять Жюлю:
— Сударь, невозможно было удержать эту женщину. Мы уже говорили ей, что барыни дома нет. Она же отвечает, что и без нас знает, сама, мол, видела — барыня выходила и вернулась. Грозилась, что не уйдёт никуда, будет стоять под дверью до тех пор, пока не поговорит с барыней.
— Ступайте, — сказал г-н Демаре слугам. — Что вам угодно, мадемуазель? — прибавил он, оборачиваясь к незнакомке.
Мадемуазель принадлежала к тому типу женщин, который встречается только в Париже. Она — порождение Парижа, как грязь, как мостовые Парижа, как вода Сены, что пропускается через парижские огромные фильтры, тщательно процеживается раз десять, прежде чем попадет наконец в граненые графины, где она искрится, ясная и чистая, очищенная от мути. И в самом деле, такая женщина — это поистине оригинальное существо. Двадцать раз запечатленная живописцами, рисовальщиками, карикатуристами, она ускользает от всякого анализа, ибо она неуловима во всех своих проявлениях, как сама природа, как фантастический Париж. И правда, она связана с пороком только одним радиусом и удалена от него в тысяче других точек социальной сферы. Притом она позволяет догадываться только об одной черте своего характера, той, из-за которой ее осуждают; ее прекрасные качества скрыты, она щеголяет своим наивным бесстыдством. Односторонне изображенная в драмах и книгах, где она окружена поэтическим ореолом, она верна себе только на чердаке, ибо в других условиях ее всегда либо превозносят, либо поносят. В богатстве она развращается, а в бедности она остается никем не понятой. Иначе и быть не может! В ней слишком много пороков и слишком много достоинств; она равно способна и наложить на себя руки, проявляя величие своей души, и предаться позорному веселью; она слишком хороша и слишком омерзительна, она превосходно олицетворяет собой Париж; из таких, как она, вербуются беззубые привратницы, прачки, метельщицы, нищенки, частенько — наглые графини, восхитительные актрисы, знаменитые певицы; ее можно узнать и в двух некоронованных королевах, некогда подаренных монархии. Кто уловит истинный лик подобного Протея? Она — само воплощение женщины, она и ниже и выше женщины. В этом сложном образе живописцу нравов удается схватить только несколько черточек, целое — бесконечно. Да, это была парижская гризетка, но гризетка во всем своем великолепии; гризетка, имеющая возможность ездить на извозчике, счастливая, молодая, хорошенькая, свежая, но все же гризетка — и гризетка с коготками, вооруженная ножницами; смелая, как испанка; сварливая, как ханжа-англичанка, отстаивающая свои супружеские права; кокетливая, как великосветская дама, лишь более прямодушная и готовая на все; своего рода «львица», только из маленькой квартирки, вместе с которой она получила все, о чем прежде так долго мечтала, — красные миткалевые занавески, мебель, крытую трипом, чайный столик, фарфоровый сервиз, украшенный цветными рисунками, диванчик, плюшевый ковер, алебастровые часы, подсвечники под стеклянным колпаком, желтую спальню, пуховую перину — словом, все утехи гризеток; экономку, тоже бывшую гризетку, но гризетку с усами и в наколке; возможность поездок в театр, засахаренные каштаны, и притом вволю, шелковые платья и дешевенькие шляпки — словом, все те наслаждения, о каких грезят модистки, сидя за своим прилавком, — разве что только не было экипажа, который, впрочем, появляется в воображении модисток лишь далекой мечтой, как маршальский жезл в сновидениях солдата. Да, наша гризетка была наделена всеми этими благами за истинную привязанность — или же несмотря на истинную привязанность, что тоже нередко бывает, когда получают все это как вознаграждение за бездумно выполняемую своеобразную повинность, за часок в день, проводимый в лапах старика. У молодой женщины, представшей перед г-ном и г-жой Демаре, были на ногах настолько открытые туфли, что на фоне ковра они лишь едва окаймляли ее белые чулки узенькими черными полосками. Эта обувь, своеобразие которой так хорошо подмечено парижской карикатурой, составляет неотъемлемое украшение парижской гризетки; а то старание, с каким она подчеркивает покроем платья все свои формы, еще больше выдает ее опытному глазу наблюдателя. Итак, незнакомка была, по образному выражению французских солдат, засупонена в рюмочку, затянута в зеленое платье с косынкой, вполне позволяющей догадываться о красоте ее груди, тем более что кашемировая шаль совсем соскользнула у нее с плеч и упала бы на пол, если бы ее концы гризетка не зажала в кулаках. У незнакомки было тонкое лицо, розовые щеки, белая кожа, серые глаза с искорками, очень выпуклый лоб, тщательно причесанные волосы, спускающиеся из-под шляпы на шею крутыми завитками.
— Меня зовут Идой, сударь. И вот, если я имею честь говорить с госпожой Демаре, то я все выложу, что накипело у меня на сердце супротив неё. Очень это дурно, когда сама ухитрилась обзавестись собственной обстановкой, вот как у вас здесь, а пытается отбить у бедной девушки — это у меня, сударь! — мужчину, который связан со мной нравственными узами и обещал искупить свой грех — заключить со мной брак в муципалитете. Что, ей мало, сударь, красивых молодчиков? Пусть тешится с ними и оставит в покое пожилого человека, в котором все моё счастье. Чего там, нет у меня шикарных хоромов, зато есть у меня любовь. Плевать мне на красавчиков с тугим кошельком, я живу сердцем, и…
Госпожа Демаре повернулась к мужу.
— Вы позволите мне, сударь, не слушать дальше, — сказала она и пошла к себе в спальню.
— Если эта дама с вами живёт, так я, видно, влопалась; ну и пусть! — продолжала Ида. — Зачем она повадилась каждый день бегать к господину Феррагусу!