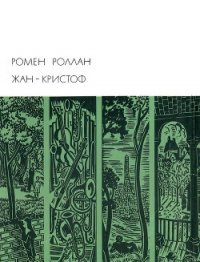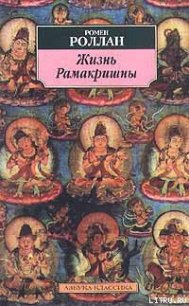Жан-Кристоф. Том II - Роллан Ромен (читать книги онлайн бесплатно серию книг .txt) 📗
«Пушку! Пушку сюда! Огонь по ним!.. Ведь это значит не понимать, что такое бой, что такое поединок с человеческой глупостью и жестокостью и что такое сила, с радостным смехом повергающая их во прах. Да и откуда вам знать? Ведь с вами-то она и сражается! А вашего героизма только на то и хватает, чтобы подавлять зевоту, когда вы слушаете или играете „Героическую симфонию“ Бетховена (ибо она навевает на вас скуку… Сознайтесь же, что вам скучно ее слушать, что вы умираете от скуки!), или пренебрегать опасностью простудиться от сквозняков, когда вы стоите, обнажив голову и согнув спину в ожидании выхода какой-нибудь сиятельной особы!»
Кристоф не жалел язвительных слов, говоря о жрецах консерваторий, для которых гений прошлого — это только классик.
«Классик! Этим все сказано. Вольную страсть приглаживают, выхолащивают на потребу школярам! Жизнь, ее необозримые просторы, где гуляет ветер, втискивают между четырех стен двора! Бурный и гордый ритм мятущегося сердца укладывают в четырехдольный такт, в тик-так часового механизма, и он мирно бредет своей куцей тропкой, прихрамывая и опираясь на крепкий костыль метронома. Вам и океан только тогда мил, когда он заключен в банку с золотыми рыбками. Вы начинаете понимать жизнь, лишь превратив ее в труп».
Если Кристоф не щадил «чучельников», как он величал их, то еще менее склонен он был мирволить «цирковым наездникам» — знаменитым дирижерам, объезжающим грады и веси, приводя в восторг публику своими округлыми движениями и набеленными руками, тем, кто щеголяет своей виртуозностью за счет правдивого толкования великих мастеров, в чьем изощренном исполнении становятся неузнаваемы самые известные вещи, кто словно сквозь обруч прыгает сквозь симфонию до-минор. Он честил их старыми кокетками, цыганами, канатными плясунами.
Богатую пищу давали Кристофу виртуозы. Он говорил, что судить об их концертах, этих сеансах фокусников, в сущности, не его дело. Пусть Консерватория искусств и ремесел сама разбирается в этих механических упражнениях, которые можно оценивать только по приборам, показывающим долготу звучания и число нот, а также количество затраченной энергии. Иногда он утверждал, что какой-нибудь прославленный пианист-виртуоз, который мог два часа подряд одолевать ужаснейшие трудности с улыбкой на устах и локоном на глазах, не способен исполнить простейшее анданте Моцарта. Разумеется, Кристоф не оспаривал наслаждения, которое приносит преодоление трудностей. Он и сам это испытывал, знал эти счастливые мгновения. Но видеть в подобных трудностях только техническую сторону и докатиться до того, чтобы сводить к ней весь героизм искусства, в его глазах было унизительно и нелепо. Он не давал спуску «львам» и «пантерам» рояля. Но не очень-то миловал и честных педантов, которыми славится Германия: из понятного опасения исказить текст великих мастеров они тщательно вытравляли из него всякий намек на взлет мысли, как это делал, например, Ганс фон Бюлов, — исполнение насыщенной страстью сонаты походило у них на урок дикции.
Затем пришла очередь певцов. Кристофу давно уже не терпелось отчитать их за варварскую косность и провинциальную манерность. Тут играло роль не только воспоминание о его ссоре с дамой в голубом. Это была отместка за все те спектакли, на которых он претерпел немалые муки. И ушам и глазам было от них одинаково больно. Притом у Кристофа не было еще достаточно материала для сравнений, ему трудно было судить об уродстве этих убогих постановок, этих безвкусных костюмов, этих кричащих красок. Но его не могли не возмущать вульгарность актеров, их жестов, поз, наигранность тона, неспособность перевоплощаться, непостижимое безразличие, с каким они перепархивали с одной роли на другую, лишь бы эти роли были написаны примерно в одном и том же голосовом регистре. Полнотелые, веселые, пышные матроны показывали себя то в «Изольде», то в «Кармен». Амфортас играл Фигаро!.. Но, разумеется, Кристофа больше всего ужасало безвкусное пение, особенно в классических операх, где так много значит красота мелодии. В Германии разучились петь прекрасную музыку конца XVIII столетия, да и не старались. Прозрачный, ясный стиль Глюка и Моцарта, как бы пронизанный, подобно стилю Гете, итальянским светом; этот стиль, который уже у Вебера мельчает, становится суетливым и пестрым; этот стиль, впадающий в смешную и тяжелую карикатуру у автора «Crociato» [12], был окончательно сокрушен в эпоху торжества вагнеровской музыки. Небеса Греции огласились пронзительными криками мчащихся в неистовом полете валькирий. Свет померк от клубящихся туч Одина. И никто уже не думал петь музыку: пели поэмы. Никто уже не замечал небрежной отделки деталей, нестройности, даже фальшивых нот — на том основании, что, мол, важно произведение в целом, важна мысль.
«Мысль! Поговорим о мысли. Можно подумать, что вы ее понимаете. Но понимаете вы ее или нет, благоволите уважать форму, которую она для себя избрала. Ведь музыка — это прежде всего музыка и ею должна оставаться!»
Особая забота о выразительности, о глубине мысли, якобы обуревающая немецких артистов, по мнению Кристофа, была милой шуткой. Выразительность? Мысль? Да, они совали их всюду, куда ни попало. Они ухитрились бы найти мысль даже в шерстяном носке — и ровно столько же, не больше и не меньше, в статуе Микеланджело. Они играли с одинаковым рвением кого угодно и что угодно. В конечном счете для большинства из них главной сутью в музыке, как утверждал Кристоф, была объемность звука, музыкальные шумы. Если любовь к пению была так сильна в Германии, то лишь потому, что оно удовлетворяло потребность в голосовой гимнастике. Главное набрать побольше воздуха, раздуть грудь и со всей энергией, сильно, долго, мерно выталкивать его. И Кристоф преподносил иным знаменитым певицам в качестве комплимента справку о нахождении в добром здравии.
Он громил не только артистов. Перешагнув через рампу, Кристоф взялся за публику, которая слушала его, разинув от удивления рот. Оглушенная атакой, она не могла решить, смеяться или гневаться. Публика имела полное право негодовать на несправедливость Кристофа: ведь она не ввязывалась в схватку между различными течениями в искусстве; она осторожно обходила все жгучие вопросы и из боязни попасть впросак аплодировала всем. И вот Кристоф вменяет ей в вину то, что она аплодирует… Аплодирует плохим произведениям? Это бы еще полбеды! Но Кристоф шел дальше: он упрекал ее за то, что она аплодирует великим произведениям!
«Притворщики! — писал он. — Можно подумать, что вы захлебываетесь от восторга! Бросьте! Вы доказываете как раз обратное. Хлопайте, если вам угодно, пьесам или страницам, которые сами напрашиваются на аплодисменты. Хлопайте шумливым финалам, созданным, говоря словами Моцарта, „для длинных ушей“. Тут вы можете дать себе полную волю: ослиный рев здесь предусмотрен, это неотъемлемая часть концерта. Но после „Missa Solemnis“ [13] Бетховена!.. Ничтожества!.. Ведь это день Страшного суда! Перед вами только что прошла, как шторм на океане, пламенная Gloria [14], перед вами промчался вихрь исполинской и яростной воли. Вот он замер, зацепившись за облака, судорожно повиснув над бездной, — и снова бешено ринулся в пространство. Ураган рычит. В самом разгаре бури — неожиданная модуляция, ярко блеснувший звук прорезывает мрак неба и падает на свинцовое море пятном света. И это — все: дикий полет ангела-истребителя сразу прекращается; его крылья пронзены тремя зигзагами молний. Но все еще трепещет вокруг. Весь мир зыблется перед опьяненным взором, как при головокружении. Сердце стучит, дыхание прерывается, тело цепенеет. Но не успела отзвучать последняя нота, как вы уже довольны и веселы, вы шутите, смеетесь, критикуете, рукоплещете! Так, значит, вы ничего не увидели, не услышали, не пережили, ничего, ровно ничего не поняли! Страдания художника для вас — только представление. Вы находите, что Бетховен тонко передал пережитую им смертную муку. Вы способны кричать «бис» на Голгофе. Человек, почти равный богам, целую жизнь страдает и борется — и все для того, чтобы на часок-другой доставить вам развлечение, потешить ваше любопытство!..»
12
«Крестоносца» (итал.)
13
«Торжественная месса» (лат.)
14
Слава (лат.)