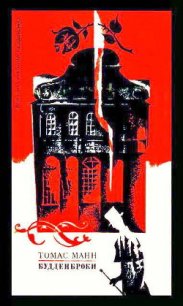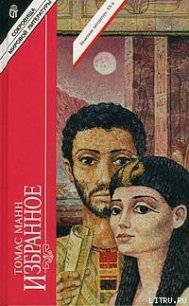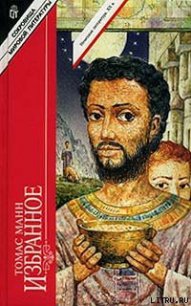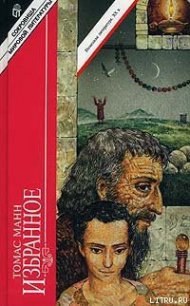Хозяин и собака - Манн Томас (серии книг читать бесплатно txt) 📗
Мне оставалось только поблагодарить профессора за столь обстоятельное разъяснение и откланяться, что я и сделал, похлопав Баушана на прощание по плечу. Направляясь к воротам, я видел, как служитель вел нового больного через двор к стоящему поодаль зданию и как Баушан, растерянно и испуганно озираясь по сторонам, искал меня глазами. А ведь, по существу-то, он должен был быть польщен: мне, откровенно говоря, было лестно, что профессор признал его нервным и малокровным. Кто на ферме в Хюгельфинге чаял и гадал, что о Баушане скажут такое и что его персоной будут заниматься ученые люди!
Но прогулки мои с этого дня стали какие-то пресные, я получал от них мало удовольствия. Выходишь – тебя не встречает буря молчаливого восторга, гуляешь – нет вокруг тебя мужественной охотничьей суетни.
Парк, казалось, опустел, мне было скучно. Почти каждый день я по телефону справлялся о здоровье Баушана. Ответ, сообщаемый какой-то подчиненной инстанцией, неизменно гласил: «Самочувствие больного, в его состоянии, удовлетворительное», но что это за состояние, мне, по каким-то соображениям, не говорили. Тем временем прошла неделя, как я отвел Баушана в лечебницу, и я решил пойти туда сам.
Прибитые всюду таблички с надписями и указующими перстами привели меня прямо к двери клинического отделения, где помещался Баушан, и я, следуя строгому предписанию на двери, вошел туда без стука.
Средней величины палата, в которой я очутился, напоминала зверинец, да и воздух в ней был такой же тяжелый, только что к звериному духу здесь примешивался еще сладковатый запах всевозможных лекарств – смесь, от которой противно першило в горле и подташнивало. По стенам шли клетки, большая часть которых была занята. Из одной клетки навстречу мне раздался хриплый лай; у ее отворенной дверцы возился человек, вооруженный граблями и лопатой, должно быть служитель. Не прерывая своего занятия, он ответил на мое приветствие и предоставил меня самому себе.
Еще на пороге я, оглядевшись, увидел Баушана и теперь направился к нему. Он лежал за решеткой своей клетки на подстилке то ли из толченой дубовой коры, то ли из каких-то опилок, отчего в палате помимо звериного запаха, вони карболки и лизоформа разило еще чем-то, – лежал, как леопард, но очень усталый, очень безучастный и скучный леопард; я даже испугался, когда увидел, с каким мрачным безразличием он отнесся к моему появлению и присутствию здесь. Раз ил» два вяло стукнул хвостом по подстилке и только после того, как я с ним заговорил, оторвал голову от лап, но тут же снова ее уронил и хмуро уставился в стенку. К его услугам в глубине клетки стояла глиняная миска с водой. Снаружи, к прутьям решетки, был прикреплен в рамочке наполовину печатный, наполовину заполненный от руки скорбный лист, где под графами: кличка, порода, пол и возраст – была выведена температурная кривая. Там стояло: «Помесь легавой, кличка Баушан, кобель, возраст два года, поступил такого-то числа, такого-то месяца, года… для исследования по поводу скрытых кровотечений». Ниже следовала начертанная пером, и кстати говоря, не показывающая особых колебаний кривая температуры, возле которой цифрами указывалась частота пульса Баушана. Ему, оказывается, измеряли температуру, и даже врач приходил щупать ему пульс – в этом отношении лучшего нельзя было и желать. Зато его моральное состояние сильно меня встревожило.
– Ваш кобелек? – спросил служитель, подходя ко мне со своим инструментом. Это был приземистый человек в дворницком фартуке, боро, датый, краснощекий, с карими, чуть налитыми кровью глазами, удивительно похожими на собачьи, – до того они были честные, влажные и добрые.
Я отвечал утвердительно, сослался на приглашение прийти через недельку наведаться, на телефонные переговоры и заявил, что пришел узнать, как обстоит дело. Служитель посмотрел на скорбный лист. Да, у собаки скрытые кровотечения, сказал он, а это история затяжная, в особенности когда не установлено, чем они вызваны. «А до сих пор не установлено?» Нет, еще окончательно не установлено. Но ведь собака поступила сюда для наблюдения, вот ее и наблюдают. «А кровотечения все продол– жаются?» Да, бывают временами. «И тогда их наблюдают?» Да, самым аккуратным образом. «А жар есть?» – спросил я, тщетно стараясь разобраться в температурной кривой. Нет, жару нет. Пульс и температура у собаки нормальные; пульс примерно девяносто в минуту, как полагается, меньше и не должно быть, а если бы было меньше, тогда наблюдать пришлось бы тщательнее. Вообще-то, если бы не кровотечения, пес в неплохом состоянии. Сперва он, правда, круглые сутки выл, а потом обошелся. Ест он вот маловато, но ведь и то сказать – сидит взаперти, без движения, а потом, много значит, сколько он раньше ел.
– А чем его кормят?
– Похлебкой, – ответил служитель, – но он плохо ест.
– Вид у него какой-то подавленный, – заметил я с деланным спокойствием.
– Есть немножко, да только это ничего не значит. В конце концов собаке не очень-то весело сидеть в клетке под наблюдением. Все они у нас подавлены, кто больше, кто меньше, – конечно, те, что посмирнее, а иной пес так начинает даже злобиться, кусаться. Ну, да ваш не такой. Он смирный, его хоть до самой смерти наблюдай, кусаться не станет.
Тут я был целиком согласен со служителем, но, соглашаясь, чувствовал, как во мне нарастает боль и возмущение.
– И сколько же, – спросил я, – ему придется еще здесь пробыть?
Служитель снова взглянул на листок.
– Господин профессор считает, что его надо понаблюдать еще деньков семь-восемь, – ответил он. – Через недельку можно справиться. В общей сложности это составит две недели, и– тогда уже точно смогут сказать, что с собакой и –как ее лечить от скрытых кровотечений.
Еще раз напоследок поговорив с Баушаном, с тем чтобы поднять его дух, и нисколько в этом не преуспев, я ушел. Уход мой он воспринял так же безразлично, как и мое появление. Презрение и глубокая безнадежность, видимо, завладели им. «Если ты способен был посадить меня в эту клетку, – казалось, говорил он всем своим видом, – чего же мне от тебя еще ждать?» Да и как ему было не разочароваться, как не утратить веру в разум и справедливость? В чем он повинен, чем заслужил такую кару и как это я не только допустил, но сам привел его сюда? А я ведь желал ему только добра. У него открылось кровотечение, и если сам он от этого особенно не страдал, то все же я, его хозяин, счел необходимым, чтобы существующая на то наука занялась им, – ведь не какая-нибудь он дворняжка, а собака из хорошего дома, и в университете я своими собственными ушами слышал, что его признали несколько нервным и малокровным, словно какое-нибудь графское дитя. И вот как все для него обернулось! Попробуйте ему растолковать, что, посадив его в клетку, как ягуара, и вместо воздуха, солнца, движения каждый день потчуя его градусником, ему оказывают честь и внимание?
Всю дорогу домой я казнился, и если раньше я скучал по Баушану, то теперь к этому прибавилось беспокойство за него, за его душевное состояние, сомнение в чистоте собственных побуждений и укоры совести. Уж не из тщеславия ли и эгоистического чванства потащил я Баушана в университет? А может быть, мною руководило тайное желание избавиться от него, любопытно было посмотреть, как потечет моя жизнь, когда я освобожусь от его неотступного надзора и со спокойной душой буду сворачивать, куда захочу, – направо или налево, не вызывая ни в едином живом существе чувства радости или горького разочарования? Что греха таить, с того дня, как Баушана поместили в клинику, я и в самом деле наслаждался давно не испытанной внутренней свободой. Никто не донимал меня видом своего мученического ожидания за стеклянной дверью. Никто, стоя у порога с робко поднятой лапой, не вызывал у меня растроганной улыбки и не отрывал раньше времени от работы. Шел ли я в парк, сидел ли дома, никому до этого не было дела. Жизнь и вправду потекла удобная, покойная и не лишенная прелести новизны. Но так как обычный стимул для прогулок отсутствовал, то я почти перестал выходить. Здоровье мое пошатнулось, и когда я уже, можно сказать, дошел до состояния запертого в клетке Баушана, то вынужден был сделать вывод, что оковы сострадания более способствовали моему личному благополучию, нежели эгоистическая свобода, которой я так жаждал.