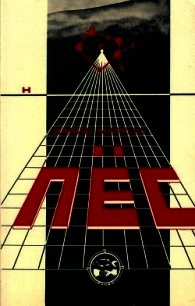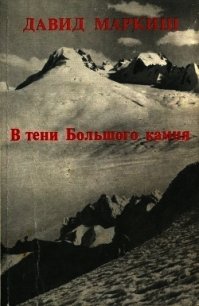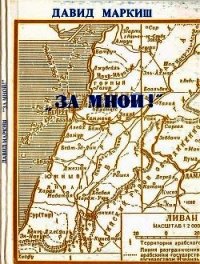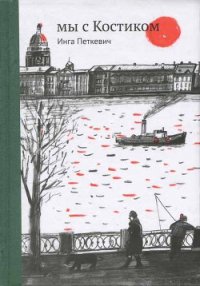Пёс (Роман) - Маркиш Давид Перецович (читать бесплатно полные книги .txt) 📗
— Что ты делаешь? Турист? Студент?
— Писатель я, — сказал Вадим и даже покраснел от удовольствия, от какого-то глубинного, тайного удовлетворения. — Эскритор. Книжки пишу.
Он был признателен нищему за этот вопрос, за интерес случайного милого человека к тому, чем он, Вадим Соловьев, занят на земле.
— А, эксриторе… — удовлетворился нищий. — Рим — хорошо?
— Гениально! — искренне определил Вадим. — Просто гениально!
— Ты не знаешь, что такое Рим, — угадал нищий. — Я — знаю. Я тебе покажу.
Вадим любил слоняться по улицам без цели, просто так. Разглядывая старинный дом, случившийся на его пути, Вадим не дивился его возрасту или славе — а с почтением думал о каменных стенах, пропустивших внутри себя многие поколения людей, о том, кем были эти люди, и как они сидели здесь по вечерам при светильнике, как уходили отсюда на войну, и как возвращались или не возвращались. Ему живо, хотя и несколько стерто по краям, представлялись картины их жизни: труд, пьянки, ссоры и любовь. На этих картинах обувь их была покрыта вполне реальной грязью улиц, руки лоснились от жира пищи. Дом, в котором протекала неповторимая жизнь этих людей, имел второстепенное значение. Его бревна и камни были примечательны лишь тем, что цепочка жильцов, скользящие звенья которой некий Некто как бы пропускал, задумавшись над чем-то своим, сквозь теплые пальцы, — что эти сменяющие друг друга временные жильцы ступали по плитам пола дома и опирались плечами о его толстые глухие стены. Вот и все о доме; он стоит себе на своем месте — старинная диковинка, действующий инкубатор поколений.
Целезаданные же перемещения от какой-нибудь исторической колонны к древней церкви вызывали в Вадиме Соловьеве озноб протеста. Колонна в глазах Вадима была лишь каменным пальцем, не имеющим отношения к человеческой судьбе, сладости или боли, а в церквах, по его разумению, неизбывно сменяющие друг друга пласты людей бездействовали, немо рассказывая Богу, навязывая ему интереснейшие, возможно, истории о содеянном вне этих стен и о вовсе еще не содеянном. Вадим был до поры бесповоротно убежден в том, что монолог человека к Богу не требует ни направляющих посредников, ни объединяющих и воздушно давящих стен собора. Монолог этот может быть произнесен в любом месте, в любом положении — хоть на голове стоя, — но только при одном непременном условии: в сосредоточенном одиночестве.
Сам Вадим несколько раз, в минуты беспредельного, как ему тогда казалось, беспокойства души, обращался к этому некоему Некто, повсеместному и вместе с тем неопределимо далекому, обращался и только постанывал, не пуская наружу слов, предназначенных лишь ему, Вадиму и Тому, другому. Для этого не требовалось ехать на другой конец города, в церковь, толкаться там среди людей, как на собрании или в театральном фойе, слушать пение и палить какие-то свечки. От всей этой суетни Некто не стал бы ближе и не отдалился бы ни на шаг. Постанывая с тесно сведенными губами, глядя перед собой и не различая окружающих близких предметов, Вадим Соловьев видел самого себя, увеличившегося вдруг до размеров неба, и говорил как бы с самим собой, — и поэтому уверен был если и не в помощи, то в понимании. Впрочем, самым краешком души он верил и в помощь.
В церкви он был два или три раза в жизни, показалась она ему подходящей для мертвой вечности, а не для горячей жизни: люди строили не для себя, а для Бога. А Богу этого не надо. Вадим Соловьев не любил рассуждать о том, что Богу нужно, а чего не нужно: ни попу этого знать не дано, ни секретарю горкома. Но что церковь — красивая или некрасивая, с колоннами или без колонн — Богу ни к чему, — в этом Вадим не сомневался.
— Может, просто погуляем по Риму? — сказал Вадим и потянулся к нищему своим бокалом. — Страде ди Рома — бениссимо! Так, что ли, у вас говорят? Да?
Нищий тотчас согласился, готовно закивал головой: да-да, именно так и говорят, и римские улицы прекрасны. После граппы лицо нищего раскраснелось, глаза погрустнели и весь он как-то ссутулился и постарел. Подбирая остатки еды хлебом и допивая, нищий часто вздыхал и взглядывал на Вадима сочувственно, как если бы их объединяла в этом зале кабака общая, беспросветная судьба.
А Вадим, напротив, чувствовал раскованность и приятную легкость: алкоголь сделал свое дело. Граппа больше не воняла тошнотворным самогоном, нищий, казалось, вдруг начал чудесным образом понимать все, что хотелось Вадиму, и по-русски. Вадим глядел на старого нищего благодарными глазами, чуть не плача от умиления, и поглаживал его по грязному плечу.
— Мы с тобой братья, амиго, — сказал Вадим Соловьев, размешивая сахар в кофе. — Я тоже нищий человек, но это даже хорошо, это прекрасно. У меня ничего нет — ни родины, ни дома, ни даже бабы. Даже собаки нет — я сам пес, так меня прозвали. Но если я пес — у меня нет мешка, который я таскал бы в зубах. Понимаешь, камрад? — Услышав понятное слово, нищий приоткрыл глаза, кивнул, а потом снова придремал. — Только нищий может писать книги в этом гнусном мире, — продолжал Вадим Соловьев. — В этом-то все и дело. Если хочешь знать, нищие — это особая нация, одно племя. Вот мы с тобой сразу друг друга поняли и договорились. А вот с этим, например, о чем мне говорить? Да плевать он хотел…
С официантом — черноволосым парнем с тупым и постным лицом — говорить, действительно, не имело никакого смысла. Развернув счет, Вадим расплатился и, приглашающе взглянув на нищего, поднялся из-за стола. Живо поднялся и нищий, и сгреб ладонью в карман плаща огрызки хлеба и кости.
— Кане! — объяснил нищий и указал рукой на дверь, за которой спала на мешке собака. — Кане — ням-ням!
После душного ресторана на улице показалось свежо, как в горах. Нищий, сбив на затылок свою белую шляпу, бодро зашагал через дорогу, словно бы знал совершенно точно, куда он идет и зачем. Вадим и собака поспевали по разные стороны от нищего, не обращающего никакого внимания на машины, опасно нацеленные на группу. Замирая от страха быть раздавленным, Вадим даже головой не вертел, а только восхищался беспечной выдержкой своего нищего товарища. Собака — та боялась, жалась к ногам хозяина. А машины ехали на большой скорости, тормозили с противным скрипом, либо с ревом поворачивали и проносились мимо. Вадим Соловьев с тоской глядел на милые деревья по ту сторону улицы; он не хотел погибнуть под колесами где бы то ни было, даже в Риме.
Выбравшись на тротуар, нищий, не сбавляя хода, нырнул в какой-то переулок между приземистыми желтыми домами, в нижних этажах которых помещались дешевые винные лавки и обжорки. Вадиму хотелось здесь остановиться ненадолго, постоять на горбатой каменной мостовой — переулок был теплый, живой, похожий на коридор большой коммунальной квартиры, — но нищий все шагал, развевая полы плащика, и собака трусила. Сунув руки в карманы куртки, Вадим, ухмыляясь неизвестно чему, послушно зашагал за нищим.
Они шли с четверть часа, в легко густеющих сумерках, шли сквозь великолепные проходные дворы, по прекрасным тесным и кривым переулкам, пахнущим фасолевым супом. Хотелось сбавить шаг, остановиться в любом месте и остаться здесь надолго: на час или на два. Нищий, однако, продолжал размашисто шагать, как будто выполнял ответственную и срочную работу. Он немного устал и приволакивал правую ногу — то ли натер при быстрой ходьбе, то ли вдруг дали о себе знать старые какие-то изъяны, — и при каждом шаге он припадал влево, плечом вперед. Вадиму Соловьеву хотелось остановить нищего и дать ему немного отдохнуть, но он не знал, как это все ему растолковать. Да нищий ведь мог и обидеться, подумать, что Вадим его осаживает: куда, мол, ты, старик, разогнался, что это за бега в твои-то годы да с хромой ногой!
Утопленная меж высокими приземистыми домами, глубокая площадка открылась перед ними внезапно: они словно бы внырнули в нее из подземного тоннеля.
— Фонтан! — отдуваясь, объявил нищий и сел на каменную ступень лестницы.
Собака, выпустив поноску, тыкалась мордой в оттопыренный карман хозяйского плаща, набитый костями и огрызками хлеба.