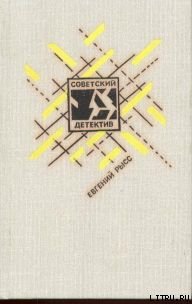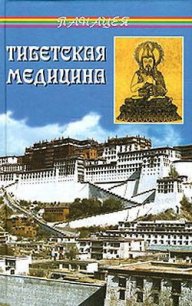Черный бор: Повести, статьи - Валуев Пётр Александрович (книги онлайн без регистрации .TXT) 📗
— Это совершенно верно, — сказал профессор. — Агитация производится в среде молодежи и насчет молодежи, но в интересе людей, которые к ней не принадлежат.
— Я близко слежу за этим, — продолжал Чугунин, — потому что имею прямой и живой интерес следить. У меня сын на втором университетском курсе, и я за него постоянно в тревоге. То боюсь, чтобы он не попался в какую-нибудь историю; то опасаюсь за общий результат учения. И направление мне неприглядно, и частые перерывы неудобны. К моему счастью, я пользуюсь доверием сына; он знает, что я умею молчать и его никогда не скомпрометирую, и потому объясняется со мною откровенно. Случается, что он по две недели не ходит на лекции, когда в каких-нибудь курсах происходит брожение. Это — одно средство не быть втянутым в какое-нибудь неладное дело и, с другой стороны, не подвергаться, за отказ в нем участвовать, таким выходкам со стороны товарищей, которые для порядочного человека невыносимы. Со стороны профессоров нет защиты против таких выходок и нет поддержки студентам, которые не желают затевать истории. Начальство знает все это, но молчит и в большинстве случаев бездействует. Из опасения, чтобы не заговорили о соре в избе, этого сора не только не выносят, но дают ему накопляться и тлеть. Я уже начинаю жалеть о том, что мой сын поступил в Университет, хотя он поступил туда по моему желанию и совету.
— Признаюсь, я иногда ставил себе вопрос, — сказал Тишин, — почему вы его не направили по тому пути, по которому вы прошли сами?
— То есть почему не через Институт путей сообщения? На это у меня был целый ворох причин. У молодого человека есть весьма порядочные способности, но не по части математики; не хотелось насиловать природный склад ума. Кроме того, я здесь связан моими делами и должностью и не желал разлучаться с сыном на годы без прямой к тому необходимости. Наконец, я вообще не желал, чтобы он шел по инженерной части. Я испытал на себе все ее неудобства. Деятельный инженер в наш век ведет более или менее кочующую жизнь, пока не доживет до седой или, по крайней мере, до седеющей бороды. Я желал бы ранее этого видеть моего сына добрым семьянином. Но и этого мало. Я желал отклонить от него все те нарекания, обвинения, подозрения и глумления, которым теперь так неразборчиво и бессовестно принято подвергать всех инженеров, как строителей, так и администраторов. Между тем всякий хороший инженер должен когда-нибудь быть строителем и может быть когда-нибудь администратором. У моего сына есть достаток. Не желаю ему встречать свое имя в газетных статьях современного пошиба и не иметь ни возможности опровергать такие статьи, ни возможности себя от них ограждать.
— В наше время было вообще спокойнее, Алексей Петрович, — сказал Тишин, обращаясь к Снегину.
— Конечно, и притом хорошо было. Мы с вами еще застали концы блистательной эпохи Университета, при графе Строгонове. Что же касается нареканий, на которые сетует Павел Иванович, то мы все, более или менее, им подвергаемся. Бедный труженик, как я, например, непременно обзывается бюрократом, формалистом, канцеляристом. Я всю жизнь трудился, не делал зла, быть может, приносил пользу — и я бюрократ. Какой-нибудь господин, которого сегодня выбирают, потому что он вчера покричал, и который завтра что-нибудь испортит или растратит, — тот не бюрократ, а живой человек…
Между тем к профессору торопливо подошел запыхавшийся от спешного хода институтский сторож и доложил, что его требует директор.
— Видно, случилось что-нибудь, — сказал Тишин, вставая. Потом он спросил сторожа, не приезжал ли кто-нибудь из города.
— Жандармский офицер приехал, — отвечал сторож, — и прошел к директору, а после того директор приказал послать за вами и за инспектором. Я долго искал вас напрасно, пока мне не указали, что вы изволили пройти в эту сторону.
— Хорошо, ступай и доложи, что я сейчас буду.
Чугунин и Снегин также встали.
— До свидания, Семен Иванович, — сказал Чугунин. — Что-нибудь да опять неладно у вас.
— Видно, так, — отвечал профессор, пожав плечами. — Мне давно уже ничто не кажется нечаянностью, и ничто меня не удивляет.
В доме, обратившем на себя внимание Алексея Петровича, было темно на уличной стороне; но в трех комнатах, выходивших на окруженный глухим забором двор, виделся свет сквозь опущенные занавеси. Первая комната, у входа, была пуста, и в ней горела только одна свеча; в другой несколько молодых людей сидели или стояли у стола, на котором в беспорядочном виде были расставлены чайный прибор, стаканы, чашки, бутылки с пивом и тарелки с закуской; в третьей комнате двое других молодых людей вынимали бумаги из внутреннего ящика старого, пестрым ситцем обитого дивана. Крышка дивана была приподнята, и на полу лежали белье и платья, которые, по-видимому, были вынуты из того же ящика.
— Теперь довольно, на всех хватит; хорошо, если и это разойдется по рукам, — сказал один из молодых людей, в котором склад лица и акцент речи обнаруживали еврейское происхождение.
— Много ли теперь разъедутся? — спросил другой молодой человек.
— Завтра должны уехать четверо, а послезавтра или дня через три — еще четверо других. Атуеву и Звонареву еще не разрешен отъезд; но кажется, что завтра разрешение будет дано.
Собеседники разложили на стоявшем вблизи столе вынутые ими бумаги; потом прикрыли бельем и платьем бумаги, оставшиеся в ящике, опустили крышку, перевернули диван, чтобы приставить к стене сторону, с которой открывался ящик, и, наконец, придвинули к дивану стол с разложенными на нем бумагами.
— Будет ли сегодня Барсук? — спросил тот из молодых людей, который осведомлялся о числе уезжающих.
— Должен быть, — отвечал другой. — По крайней мере, сказал, что будет. Впрочем, с ним случается, что скажет одно, а сделает другое; больно осторожен.
— Ему и нельзя не быть осторожным.
— Так; но и кроме осторожности он всегда сам себе на уме. Знает, что нужен, и не стесняется давать это чувствовать.
Между тем в средней комнате шли между собравшимися там молодыми людьми шумные перекрестные разговоры. Одни толковали о неурядице в столовой; другие жаловались на бывшие экзамены, в особенности у двух или трех преподавателей, в числе которых несколько раз поименовывался профессор Тишин; третьи рассуждали о предстоявших на вакантное время поездках. Молчал и вообще казался несколько смущенным и беспокойным только один из присутствовавших, белокурый молодой человек, лет двадцати, красивый лицом и одетый с некоторой изысканностью, что его резко отличало от прочих.
— Твой Невзоров неразговорчив, — сказал вполголоса студент Атаназаров стоявшему рядом с ним другому студенту, с которым пришел тот молчаливый молодой человек, которого Атаназаров назвал Невзоровым.
— Он здесь в первый раз, — отвечал другой студент, — и застенчив. Сырой материал — но полезный.
— А надежен ли? Он что-то глядит белоручкой и щеголем.
— Есть немного — и оттого польза. Средства есть. Его отец богат, а нам от сына нужны не дело, а деньги. Он уже внес сто рублей в кассу и дал столько же для отсылки в Петербург. Даст еще. А надежен вполне. Золотой характер. Добрый товарищ, и коли дал слово, то всегда сдержит.
— Давно ли он в университете?
— Он на втором курсе. Меня с ним познакомил и за него поручился старший из Злобиных, Владимир. Он сам на третьем курсе; но его брат на втором и завербовал Невзорова.
— Из Злобиных, вероятно, никого сегодня не будет.
— Незачем. Вообще университетским не следует часто здесь показываться. С ними гораздо удобнее видеться в городе.
В это время стоявший у окна другой студент приподнял один конец занавеси, потом опустил его и сказал;
— Барсук идет.
Послышались шаги, но не с той стороны крыльца, с которой входили прочие посетители, а с противоположной. Все обернулись к двери. Она отворилась, и в комнату вошел человек высокого роста, в темно-синих очках с боковыми клапанами, в сером летнем, доверху застегнутом пальто, в охотничьей мягкой шляпе того же серого цвета, с толстой палкой в одной руке и небольшим черным кожаным саквояжем в другой. На вид ему было под тридцать лет, и значение, которым он пользовался в кругу собравшейся молодежи, обнаружилось тем, что все сидевшие встали со своих мест, кроме Невзорова, на лице которого можно было прочитать, что он вошедшего не знает.