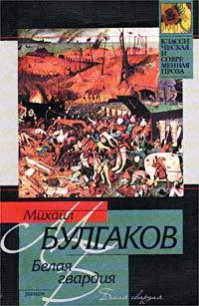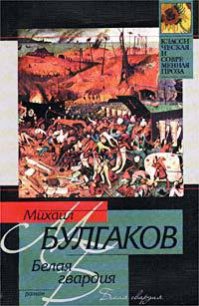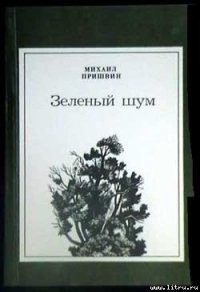Белая гвардия - Булгаков Михаил Афанасьевич (книга жизни TXT) 📗
Да-с, смерть не замедлила. Она пошла по осенним, а потом зимним украинским дорогам вместе с сухим веющим снегом. Стала постукивать в перелесках пулеметами. Самое ее не было видно, но, явственно видный, предшествовал ей некий корявый мужичонков гнев. Он бежал по метели и холоду, в дырявых лаптишках, с сеном в непокрытой свалявшейся голове, и выл. В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси. Запорхали легонькие красные петушки. Затем показался в багровом заходящем солнце повешенный за половые органы шинкарь-еврей. И в польской красивой столице Варшаве было видно видение: Генрик Сенкевич стал в облаке и ядовито ухмыльнулся. Затем началась просто форменная чертовщина, вспучилась и запрыгала пузырями. Попы звонили в колокола под зелеными куполами потревоженных церквушек, а рядом, в помещении школ, с выбитыми ружейными пулями стеклами, пели революционные песни. По дорогам пошло привидение – некий старец Дегтяренко, полный душистым самогоном и словами страшными, каркающими, но складывающимися в его темных устах во что-то до чрезвычайности напоминающее декларацию прав человека и гражданина. Затем этот же Дегтяренко-пророк лежал и выл, и пороли его шомполами люди с красными бантами на груди. И самый хитрый мозг сошел бы с ума над этой закавыкой: ежели красные банты, то ни в коем случае не допустимы шомпола, а ежели шомпола – то невозможны красные банты...
Нет, задохнешься в такой стране и в такое время. Ну ее к дьяволу! Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый. Случилось другое. Нужно было вот этот самый мужицкий гнев подманить по одной какой-нибудь дороге, ибо так уж колдовски устроено на белом свете, что, сколько бы он ни бежал, он всегда фатально оказывается на одном и том же перекрестке.
Это очень просто. Была бы кутерьма, а люди найдутся.
И вот появился откуда-то полковник Торопец. Оказалось, что он ни более ни менее, как из австрийской армии...
– Да что вы?
– Уверяю вас.
Затем появился писатель Винниченко, прославивший себя двумя вещами – своими романами и тем, что лишь только колдовская волна еще в начале восемнадцатого года выдернула его на поверхность отчаянного украинского моря, его в сатирических журналах города Санкт-Петербурга, не медля ни секунды, назвали изменником.
– И поделом...
– Ну, уж это я не знаю. А затем-с и этот самый таинственный узник из городской тюрьмы.
Еще в сентябре никто в Городе не представлял себе, что могут соорудить три человека, обладающие талантом появиться вовремя, даже и в таком ничтожном месте, как Белая Церковь. В октябре об этом уже сильно догадывались, и начали уходить, освещенные сотнями огней, поезда с Города-I, Пассажирского, в новый, пока еще широкий лаз через новоявленную Польшу и в Германию. Полетели телеграммы. Уехали бриллианты, бегающие глаза, проборы и деньги. Рвались и на юг, на юг, в приморский город Одессу. В ноябре месяце, увы! – все уже знали довольно определенно. Слово
– Петлюра!!!
– Петлюра!!
– Петлюра! -
запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему:
– Пэтурра.
Отдельные немецкие солдаты, приобретшие скверную привычку шататься по окраинам, начали по ночам исчезать. Ночью они исчезали, а днем выяснялось, что их убивали. Поэтому заходили по ночам немецкие патрули в цирюльных тазах. Они ходили, и фонарики сияли – не безобразничать! Но никакие фонарики не могли рассеять той мутной каши, которая заварилась в головах.
Вильгельм. Вильгельм. Вчера убили трех немцев. Боже, немцы уходят, вы знаете?! Троцкого арестовали рабочие в Москве!! Сукины сыны какие-то остановили поезд под Бородянкой и начисто его ограбили. Петлюра послал посольство в Париж. Опять Вильгельм. Черные сингалезы в Одессе. Неизвестное, таинственное имя – консул Энно. Одесса. Одесса. Генерал Деникин. Опять Вильгельм. Немцы уйдут, французы придут.
– Большевики придут, батенька!
– Типун вам на язык, батюшка!
У немцев есть такой аппарат со стрелкой – поставят его на землю, и стрелка показывает, где оружие зарыто. Это штука. Петлюра послал посольство к большевикам. Это еще лучше штука. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Пэтурра.
Никто, ни один человек не знал, что, собственно, хочет устроить этот Пэтурра на Украине, но решительно все уже знали, что он, таинственный и безликий
(хотя, впрочем, газеты время от времени помещали на своих страницах первый попавшийся в редакции снимок католического прелата, каждый раз разного, с подписью – Симон Петлюра),
желает ее, Украину, завоевать, а для того, чтобы ее завоевать, он идет брать Город.
6
Магазин «Парижский Шик» мадам Анжу помещался в самом центре Города, на Театральной улице, проходящей позади оперного театра, в огромном многоэтажном доме, и именно в первом этаже. Три ступеньки вели с улицы через стеклянную дверь в магазин, а по бокам стеклянной двери были два окна, завешенные тюлевыми пыльными занавесками. Никому не известно, куда делась сама мадам Анжу и почему помещение ее магазина было использовано для целей вовсе не торговых. На левом окне была нарисована цветная дамская шляпа, с золотыми словами «Шик паризьен», а за стеклом правого окна большущий плакат желтого картона с нарисованными двумя скрещенными севастопольскими пушками, как на погонах у артиллеристов, и надписью сверху:
«Героем можешь ты не быть, но добровольцем быть обязан».
Под пушками слова:
«Запись добровольцев в Мортирный Дивизион, имени командующего, принимается».
У подъезда магазина стояла закопченная и развинченная мотоциклетка с лодочкой, и дверь на пружине поминутно хлопала, и каждый раз, как она открывалась, над ней звенел великолепный звоночек – бррынь-брр-рынь, напоминающий счастливые и недавние времена мадам Анжу.
Турбин, Мышлаевский и Карась встали почти одновременно после пьяной ночи и, к своему удивлению, с совершенно ясными головами, но довольно поздно, около полудня. Выяснилось, что Николки и Шервинского уже нет. Николка спозаранку свернул какой-то таинственный красненький узелок, покряхтел – эх, эх... и отправился к себе в дружину, а Шервинский недавно уехал на службу в штаб командующего.
Мышлаевский, оголив себя до пояса в заветной комнате Анюты за кухней, где за занавеской стояла колонка и ванна, выпустил себе на шею и спину и голову струю ледяной воды и, с воплем ужаса и восторга вскрикивая:
– Эх! Так его! Здорово! – залил все кругом на два аршина. Затем растерся мохнатой простыней, оделся, голову смазал бриолином, причесался и сказал Турбину:
– Алеша, эгм... будь другом, дай свои шпоры надеть. Домой уж я не заеду, а не хочется являться без шпор.
– В кабинете возьми, в правом ящике стола.
Мышлаевский ушел в кабинетик, повозился там, позвякал и вышел. Черноглазая Анюта, утром вернувшаяся из отпуска от тетки, шаркала петушиной метелочкой по креслам. Мышлаевский откашлялся, искоса глянул на дверь, изменил прямой путь на извилистый, дал крюку и тихо сказал:
– Здравствуйте, Анюточка...
– Елене Васильевне скажу, – тотчас механически и без раздумья шепнула Анюта и закрыла глаза, как обреченный, над которым палач уже занес нож.
– Глупень...
Турбин неожиданно заглянул в дверь. Лицо его стало ядовитым.
– Метелочку, Витя, рассматриваешь? Так. Красивая. А ты бы лучше шел своей дорогой, а? А ты, Анюта, имей в виду, в случае, ежели он будет говорить, что женится, так не верь, не женится.